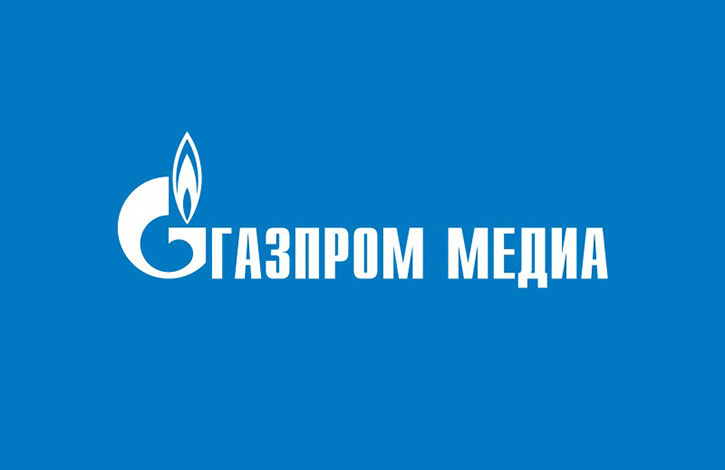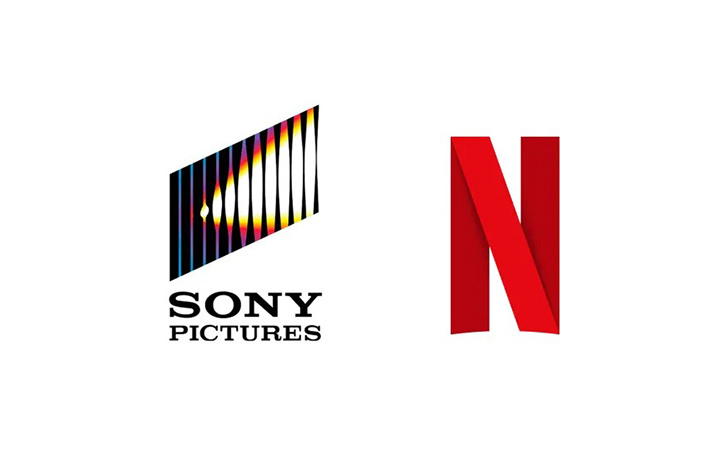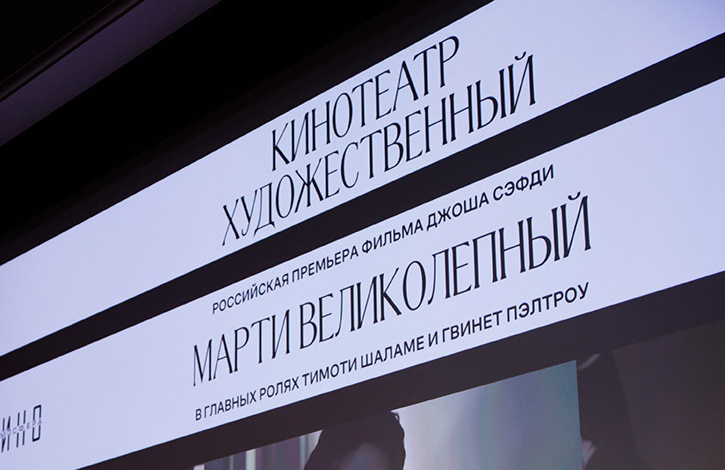Андрей Апостолов: «В нынешнее время программа любого российского фестиваля не отбирается, а собирается»

Программный директор «Окна в Европу» рассказал БК о том, как отбирать картины в условиях современного изобилия фестивалей, и почему молодые режиссеры хотят попасть в конкурс смотра
8 августа в Выборге стартует 33-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». По словам его программного директора Андрея Апостолова, в этом году смотр будет насыщен в плане зрительских, жанровых премьер, а его образовательную программу можно назвать по-настоящему звездной: лучшие современные кинодраматурги проведут в городе свои мастер-классы. О том, как отбирать картины в условиях современного изобилия фестивалей, как завлечь зрителя на документальное кино и почему молодые режиссеры хотят попасть в конкурс «Окна в Европу», Апостолов рассказал в интервью БК.
В середине июля завершился «Горький fest», в середине августа стартует «Окно в Европу». Насколько это принципиально разные фестивали для вас как для программного директора?
Это абсолютно разные фестивали, мне кажется. И для меня, и для публики, и для кинематографистов. Во-первых, Выборг даже по устройству гораздо более академичный фестиваль, традиционный, с тремя большими конкурсами анимационного, документального и игрового кино. «Горький fest» – это чехарда всех форматов и жанров в одном конкурсе. Я честно говорю во всех интервью, что за эти несколько лет, что я совмещаю посты на двух фестивалях, у меня не было конфликта интересов, когда нужно было выбирать, на какой из фестивалей отправить тот или иной фильм. Обычно сами продюсеры заранее понимают, если их фильм больше подходит для «Окна в Европу» или для «Горького». С моей стороны могла быть только вспомогательная навигация: «Окно в Европу» лучше знают, это фестиваль с большей историей. Пару раз были такие ситуации, когда приходили фильмы, которые хотели попасть в конкурс Выборга, и я намекал или подсказывал, что «Горький fest» им подходит больше.
Какая конкурсная программа сложилась у «Окна в Европу» в этом году? Какие в ней смысловые акценты?
Я считаю, что смысловые акценты складываются уже по итогу фестиваля. Когда отбираешь, ты смотришь много и у тебя нет такой концентрации этих смыслов, которые складываются во время просмотра на фестивале, когда около десяти фильмов утрамбовываются и показываются в течение пяти дней. Тогда действительно становятся видны сквозные линии, какой-то общий мотив, но в процессе отбора на самом деле это не так ощутимо. А программа в этом году, я бы сказал, больше тяготеет к арт-мейнстриму в сравнении, например, с прошлым годом. Не исключаю, что это связано с сосуществованием с «Маяком», который как будто больше смотрит как раз в сторону такого традиционного фестивального артхауса, назовем это так. А у нас больше кино на грани авторского и жанрового, которое претендует на то, чтобы дальше выходить в более-менее широкий прокат, на платформы. Мне это нравится, и мне кажется, что это тенденция не только нашего фестиваля, а вообще фестивального движения, потому что как такового авторского кино, которое нацелено исключительно на фестивальное участие и фестивальную аудиторию, становится все меньше и меньше, поскольку мы в последние годы не участвуем в европейских фестивалях, и для некоторых продюсеров, мне кажется, это направление перестало быть актуальным и рентабельным.
Кстати, об аудитории. Вы учитываете при отборе фильмов, что «Окно в Европу» смотрят горожане, рядовые зрители, а не исключительно работники индустрии?
Это нельзя не учитывать. Вспомним «Кинотавр» или уже упомянутый «Маяк»: когда отборщик знает, что в зале только кинематографисты, у него в определенном смысле развязаны руки, есть некий профессиональный карт-бланш. Можно рассчитывать заранее, что фильмы будут поняты. А городским фестивалям надо держать в голове своего идеального зрителя, как было на презентации телеканала «Домашний» в Иваново, и не то чтобы под него подстраиваться, но необходимо иметь в виду, что в программе обязательно должны быть фильмы, которые он оценит и примет. У нас практически вся внеконкурсная программа «Осенние премьеры» жанровая, зрительская, семейная. Честно скажу, что включил туда и фильмы, поклонником которых сам не являюсь, исходя из понимания аудитории. Это то кино, которое будет разрядкой для выборгского зрителя после просмотра порой непростых фильмов конкурсной программы.
На какие фильмы основного конкурса стоит обратить внимание?
На все… Например, на фильм БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ Юлии Трофимовой. Мне кажется важным, что этот фильм будет показан в первый день, потому что он может служить для публики основным ориентиром программы этого года – это арт-мейнстрим, пограничное кино между прокатом и фестивалем. Юля – режиссер-комбинатор, который выигрывает ММКФ и параллельно снимает платформенные сериалы с компанией братьев Андреасян. Это хороший пример человека, который умеет делать и так, и так, и чувствует промежуточный формат. Фильм КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ Евгения Григорьева – кино на стыке жанрового и авторского. Это камерный триллер, но при этом в нем просто актерское раздолье для публики, потому что это Аглая Тарасова, это Денис Прытков, это Павел Деревянко, это Юлия Снигирь. 35-Я СТРАНИЦА – фильм Филиппа Ларса с Егором Корешковым в главной роли, который в прошлом году приезжал с ЗАТЕРЯННЫМИ, дебютная причудливая история про интеллигента в духе кинематографа семидесятых-восьмидесятых. Фильм ВСТРЕЧНЫЕ – дебют Камилы Рамазановой, который продолжает фестивальную историю с выпускниками ВГИКа: в прошлом году была Малика Мухмеджан. И это еще кино о кино, а если есть те, кто следит за моими фестивальными программами, то они знают, что я очень ценю кино, которое предполагает какую-то рефлексию о кинематографе, о кинематографистах.
У нас будет фильм ЖЕМЧУГ, вторая картина Тины Баркалая, продюсер – Катя Филиппова. Это снова социальная сказка, как и прошлая работа режиссера, СКАЗКИ ГОФМАНА. Тоже с шикарным кастом: Цыганов, Ходченкова, Пегова, Эра Зиганшина. Это в хорошем смысле индийское кино: в нем есть индийский сюжетный мотив, смачная стилизация под Болливуд и это совместное производство с Индией. У Тины, очевидно, сложился свой, ни на кого не похожий режиссерский почерк. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СИДНИ ЛЮМЕТА – дебют Рауля Гейдарова, кино в духе советского грузинского кинематографа шестидесятых-семидесятых с примесью стиля кабардинской мастерской Александра Сокурова. Еще дебют Славы Березовского ДЕЛИРИУМ – пограничное, несколько трансгрессивное кино с интересными работами Риналя Мухаметова и Анжелики Неволиной. Первой ассоциацией при его просмотре наверняка будет ПИАНИСТКА Ханеке. Этот фильм продюсировал Максим Добромыслов, и мне кажется, это уже самобытное, хоть и недооцененное явление в нашем кинематографе – кино Максима Добромыслова. Его делает «кружок» представителей авторско-радикального, независимого кино, которое снимается почти без бюджета. И можно посмотреть программы российских фестивалей последних лет – кажется, нет такого, где в конкурсе не было бы фильма «от Добромыслова». Есть еще нестандартное кино – ДОГГИ Вячеслава Росса, где Маша Мацель добровольно становится домашней собакой Александра Устюгова.
Чем эта программа для меня особенно ценна, так это тем, что, несмотря на присутствие профильных фестивалей дебютного кино («Дух огня», конкурс дебютов на «Короче»), у нас ровно половина программы – дебютные фильмы. А еще по ней можно увидеть, как в современном кино по мере того, как усиливается тенденция складывания большого стиля блокбастеров, сказок, фэнтези, параллельно возникает какой-то андеграунд. То есть Роман Михайлов может быть знаменосцем этого движения, но он уже далеко не один. И в этом плане неизбежно сравнение с «Горький fest»: собирать программу в Нижний Новгород, где есть простор для экспериментов, становится легче, потому что количество странного, андеграундного кино, какого-то подпольного кинематографа нарастает. А в случае с «Окном в Европу» я ощущаю дефицит, потому что нужно отобрать десять премьерных хороших фильмов, нигде не погрешив против собственного вкуса и не вступая в компромиссы с совестью, для фестиваля с арт-мейнстримной направленностью, как я уже говорил.
Не секрет, что изменения в правилах выдачи прокатных удостоверений пришлись на время проведения «Горький fest». Вы справились. Это как-то изменило вашу работу или работу продюсеров, которые подали свои фильмы на «Окно в Европу»? Может, вы посоветовали всем поторопиться со сбором документов?
По большому счету, изменение системы произошло буквально на следующий день после того, как мы опубликовали программу. Да, это, конечно, с одной стороны, стало абсолютным шоком, а с другой стороны, где-то даже пошло на пользу фестивалю, потому что все понимали, в каком положении мы оказались. И я не перестаю благодарить сотрудников министерства культуры и Госфильмофонда за то, что они оказали нам колоссальное содействие. Я видел, что фильмы фестиваля были поставлены в приоритет и по ним шла первоочередная работа. «Окно в Европу» готовится в более штатном режиме. Мы, конечно, форсируем все процессы, какие можем, и что-то подаем сами от фестиваля, ежедневно торопим наших продюсеров.
Как обстоят в этом году дела с документальной и анимационной программами? По предыдущим посещениям фестиваля складывалось ощущение, что они несколько обделены вниманием и зрителей, и прессы. Вы как-то собираетесь исправлять эту ситуацию?
По документальному конкурсу мне кажется важным шагом, что второй год подряд он будет полностью премьерным. Это фактически уравнивает его с игровым конкурсом по статусу. Я считаю, у нас солидное представительство по именам в этом году: например, Алексей Федорченко и Дмитрий Давыдов будут представлены в неигровом конкурсе. Но есть объективная сложность. Фестиваль проходит на двух площадках, за счет чего неигровой конкурс как будто априори был в невыгодном положении, его показывали в Доме культуры. Пару лет назад мы его перенесли на основную площадку, но теперь новая проблема: мы его можем поставить только на дневное время, когда не набираются полные залы. Я вижу решение в том, чтобы волевым усилием со следующего года перенести слот показа неигрового конкурса на вечернее время. Например, поставить вечерний блок показов «игровое – неигровое – игровое». А внеконкурсные показы перенести на дневное время и поздний вечер с расчетом, что они своего зрителя в любом случае соберут.
Нам важно осветить и усилить конкурс неигрового кино. Но я не буду отрицать, что проблемы этих конкурсов, неигрового и анимационного, объективные. Фестиваль начинался 33 года назад, когда не было такого количества профильных фестивалей, и могучий смотр в Выборге вобрал в себя все три вида кино, что было правильно. Но сейчас есть «Докер», «Флаэртиана», «Россия», мои любимые «Саратовские страдания», «Послание к человеку». На фоне такого количества профильных смотров кажется, что в Выборге неигровой конкурс где-то на обочине. Моя задача – его положение усилить, чтобы выигрывать эту конкуренцию. То же с анимационным конкурсом: когда он появился на фестивале «Окно в Европу», не было «Суздальфеста», «Бессонницы», Большого фестиваля мультфильмов. Сейчас объективно «Окно в Европу» по своему конкурсу им уступает, потому что они профильные, а мы – нет. Но я отмечу, что на эти программы за пару последних лет публика стала лучше ходить благодаря тому, что мы ввели общение авторов с залом. Это мера, которую многие недооценивают. Представьте: человек сидит в зале, ему не нравится фильм, он может встать и уйти, но ему предлагают опцию досмотреть и высказать свое недовольство или задать свои вопросы, если ему чтото непонятно, услышать, что думают другие зрители, и сопоставить их ощущения со своими. Вроде бы это 10–15 минут после показа, буквально пара реплик из зала, но для публики это важно.
И еще одна важная составляющая фестиваля – образовательная секция. Традиционно на фестивалях работает деловая программа, но на «Окне в Европу» другой формат. Что наполнит ее в этом году?
У нас будет деловая программа в этом году, точнее, несколько мероприятий, которые мы проведем под этим определением. Но я его побаиваюсь, потому что в последние годы наличие деловой программы стало какой-то обязательной галочкой для всех фестивалей. Я довольно много участвую в подобных мероприятиях как спикер, модератор, и я не уверен, что они всегда оправданы, что они всегда содержательны, что они всегда имеют какую-то результативность.
Специфика фестиваля «Окно в Европу» в том, что он всегда позиционировался как рабочий фестиваль, где кино – это цель, а не повод, и нет возможности привезти гостей, которые не относятся к фильмам-участникам. Но могу смело сказать: в этом году образовательная программа – это наша победа. У нас будут два основных блока. Первый связан с интенсивом по драматургии, который мы будем делать совместно с программой «Автор». У нас в жюри будет Александр Дьяков, главный редактор «Автора». В раздатке для гостей и участников фестиваля будет первый номер возобновленного журнала «Киносценарии». А председатель жюри – Олег Маловичко, и в целом в этом году особое внимание к драматургии и к фигуре драматурга. Мы сделали это намеренно, немного демонстративно, чтобы повысить статус сценариста. Мы на днях общались с Саввой Минаевым, который приедет к нам на фестиваль с мастер-классом, и пришли к выводу, что бесконечные разговоры о кризисе сценарного цеха связаны не с тем, что сценаристов не хватает, а с тем, что сценаристов просто не знают – в лицо, по имени. Поэтому, мне кажется, одна из задач сейчас – популяризировать их, чтобы этих людей знали в лицо. У нас будет цикл, в рамках которого пройдут презентация программы «Автор» и серия мастер-классов Олега Маловичко, Алены Званцовой, еще одного члена нашего жюри, Саввы Минаева и Ильи Тилькина. Мне кажется, это дрим-тим. То есть если бы я хотел заниматься драматургией, я побежал бы на эти мастер-классы.
Другая часть образовательной программы будет посвящена нашей основной теме – это поколение шестидесятников, Хуциев, Тодоровский, их отношение с темой войны в кинематографе, в творчестве, в биографиях. Это будет цикл киноведческих лекций, среди которых выделяется выступление Любови Юрьевны Аркус, которая будет у нас председателем жюри неигрового конкурса. Она не так часто дает публичные лекции, так что это жемчужина нашей программы.
Чем наполнились сторонние программы: сериальные, ретроспективы?
Я очень настороженно и аккуратно захожу на территорию сериала. Мне не хочется бежать за паровозом, который уже едет. Есть фестивали «Пилот», «Новый сезон», в систему которых сложно встроиться. Неслучайно у нас эта программа называется «Сериальная пауза». Это попытка интегрировать в минимальной дозировке сам по себе этот формат, посмотреть, как он работает, как на него реагирует зритель. Так что я бы сказал, что в этом плане мы до сих пор в тестовом режиме. Но при этом у нас есть налаженные отношения с каналом «Россия», с компанией «Москино». В прошлом году мы делали премьеру «Столыпина» на фестивале. В этом году будет премьера такого же большого проекта ВГТРК «Князь Андрей». Так что не исключено, что мы застолбим за собой, например, российские премьеры вот таких больших эпиков от телеканала. Почему нет?
Вместе с тем в этом году у нас будет Okko с документальными проектами: «Черкизон», который уже показали на «Пилоте», и мы сделаем объединенный показ с премьерой, первой серией «Горбушки». Мне кажется, эти проекты хорошо друг друга дополняют, потому что это два знаковых места Москвы девяностых, которые, в общем-то, олицетворяют во многом Россию того времени.
Что касается ретроспектив, то здесь все просто: мы в прошлом году начали программу «Кино о кино», поскольку это моя любимая тема, я хочу ее продолжить. Покажем документальные фильмы, посвященные кинематографистам и их фильмам. В каком-то смысле эта программа дополняет образовательную. Будет также небольшая программа «Просто Марлен»: четыре документальных фильма про Марлена Хуциева, которому в этом году сто лет. Это один из основателей нашего фестиваля, так что мы не могли пройти мимо этой даты. И будет специальная программа «Отцы-основатели фестиваля о Великой Отечественной войне». Это год 80-летия Победы, на каждом фестивале есть так или иначе какая-то специальная программа, посвященная этой теме. Но мне кажется очень красивым, что на нашем фестивале это не просто какие-то военные фильмы – это военные фильмы, которые снимали люди, имеющие прямое отношение к фестивалю. Это Ростоцкий, это тот же Хуциев, это Кулиш, это причастный к таким фильмам Таривердиев. И закончим мы эту программу фильмом нашего нынешнего президента Сергея Урсуляка, чтобы показать преемственность. Это то, что демонстрирует идентичность фестиваля: «Окно в Европу» – то место, где происходит одно рукопожатие от, например, Марлена Хуциева до Романа Каримова. Это очень важно в ситуации возникновения множества новых фестивалей, и пускай растет это фестивальное поле, но тем важнее напоминать зрителям о том, что у «Окна в Европу» богатая история. Это пространство, где осуществляется живой диалог, условно говоря, советской кинотрадиции с современным кинематографом. Например, о прошлогоднем фильме РОВЕСНИК говорили, что это современная ЗАСТАВА ИЛЬИЧА. А автор ЗАСТАВЫ – Марлен Хуциев, один из основателей фестиваля. Эти рифмы мне кажутся очень красивыми, и хочется их больше акцентировать и педалировать в программе.
Если говорить об «Окне в Европу» в целом, за тот период, что вы им занимаетесь, как вы оцениваете влияние фестиваля на дальнейшую судьбу фильмов в прокате?
Я искренне могу сказать, что мало у какого фестиваля есть потом такой шлейф успехов фильмов из конкурса на других фестивалях. Ближайший пример – НАСТУПИТ ЛЕТО, который был показан после нас на «Духе огня», стал одним из фаворитов конкурса и взял три награды.
Мы знаем, какое количество наград у ФИЛАТЕЛИИ после нашего фестиваля – уже пара десятков приличных фестивалей взяли ее в конкурс. В прошлом году в декабре я сам оказался в неловкой ситуации, когда был в жюри фестиваля Arctic Open, где натурально половина программы оказалась из фильмов, которые до этого были в Выборге. Я думал, нет ли здесь конфликта интересов, хотя напрямую я к этим фильмам не причастен, но все равно как-то невольно, в общем, к ним расположен. У ЛАСТОЧКИ тоже была замечательная фестивальная судьба – и международная, и в России.
А вот что касается влияния фестиваля на дальнейшую прокатную или, скажем так, индустриальную судьбу фильма... Я не знаю, есть ли у фестивалей какое-нибудь влияние в этом смысле вообще. Многие продюсеры считают, что оно отрицательное, что «лаврик» на афише «участник фестиваля» может отпугнуть зрителя от похода в кинотеатр. В глобальном смысле, я думаю, это не связано с авторитетом каждого фестиваля в отдельности. Я где-то внутренне солидарен с Антоном Калинкиным, который часто говорит о том, что у нас нет какой-то ассоциации фестивалей, синергии между фестивалями. А в нашей стране, если нет какого-то административного органа, очень сложно на что-то влиять. Но в целом фестиваль – это в большей степени просветительское явление, альтернатива этому самому прокату, а не трамплин для него. Это пространство, где мы открываем новые имена, где мы знакомимся с новыми фильмами. И как будто влиять на дальнейшую прокатную судьбу, на дистрибуцию и продажу работ он не обязан. Хотя, конечно, мы стараемся приглашать на фестиваль представителей платформ, закупщиков и прокатчиков, чтобы он был и местом коммерческих сделок.
Достаточно ли сейчас производится российского кинопродукта для фестивалей?
У меня есть чеканная формулировка, что в нынешнее время программа фестиваля (не только нашего, а фестивалей вообще) не отбирается, а собирается. Проблема в том, что очень ограничен ресурс выбора, и задача программного директора – собрать свои десять достойных фильмов, которые он готов представить публике. Нет ситуации, когда он выбирает десять из ста достойных фильмов, потому что их на самом деле просто нет. То есть это очень дефицитное пространство, и на «Окне в Европу», возможно, будет лучше, когда мы откажемся от пресловутой десятки. Лучше меньше, да лучше. Пускай будет семь-восемь картин, но зато мы будем в них уверены.
В этом году были картины, которые вы хотели заполучить, но они ушли на другие фестивали?
Конечно. Я думаю, у любого фестиваля такие фильмы есть. Но нужно понять, как работает эта конкуренция. Это никак не связано с тем, что один фестиваль становится масштабнее или заметнее, а другой уходит в тень или уступает. Это всегда очень индивидуально. Например, был фильм (я не могу произнести название), где продюсер очень хотел участвовать в «Окне в Европу», мы уже обо всем договорились, начали по этому фильму работать. Но режиссер, оказалось, когда-то был с коротким метром на «Короче», и для него было мечтой свой полнометражный дебют представить именно там. Тут сугубо субъективный фактор. В этом смысле я не устаю повторять, что в ситуации, когда у нас объективно фестивалей и вот этих слотов фестивальных показов для премьерных фильмов больше, чем самих фильмов, работа программного директора более похожа на работу дипломата, который должен заниматься коммуникациями, уговаривать и обосновывать, почему именно его фестиваль среди всего разнообразия фильму подходит больше.
Мне кажется, что нам удалось за последние несколько лет отстоять статус «Окна в Европу». Нам пошло на пользу в прошлом году участие такого мощного дебютного десанта – РОВЕСНИК, ЛАСТОЧКА, НАСТУПИТ ЛЕТО, ПРАВИЛА ФИЛИППА, которые забрали половину наград фестиваля. Это показало, что «Окно в Европу», несмотря на его стародавнюю историю, – не олдскульный фестиваль. В нем есть свежесть, в нем есть дерзость. Кроме того, мне кажется, для нового поколения режиссеров причастность к фестивалю с историей немаловажна. Я общаюсь постоянно с дебютантами, я вижу, что для них тоже определенный кайф приехать на фестиваль, где были КУКУШКА, ПИТЕР FM, БУМЕР. Здесь проходили премьеры этих фильмов, а через годы они стали культовыми. Мне кажется, молодые кинематографисты в этом смысле немного фетишисты в хорошем значении. Они разбираются в фестивалях и им нравится приезжать туда, где есть какая-то киноистория.
В целом, когда я начинаю собирать программу, у меня есть три контрагента в плане коммуникации – продюсер фильма, пиарщик и режиссер. И у них абсолютно разные приоритеты. Что интересует пиарщика? Что с медийностью, сколько будет прессы, какой охват освещения, сколько камер, какие каналы. Что интересует продюсера? Жюри, конкурсные расклады, денежные призы, кто едет от платформ, от прокатчиков. А вот режиссер может сказать: у вас же в позапрошлом году был вот этот фильм, вот наш фильм как-то с ним совпадает. И отборщик понимает: режиссер едет не вслепую, он берет этот фестиваль, довольно досконально изучает, в какую среду он попадает, какой у этого фестиваля бэкграунд и в какую как бы ячейку попадает его кино.
А известна ли динамика интереса аудитории к фестивалям? Тем более что у вас в фокусе сразу два зрителя – в Нижнем Новгороде и в Выборге.
Я сразу извинюсь перед зрителями «Окна в Европу», но такой аудитории, какая есть в Нижнем, нет больше нигде. Аншлаги по 800 человек на всех фильмах конкурсных программ, и еще очень такая благодушная публика, очень заинтересованная. На «Окне в Европу» другая публика, более искушенная, более взыскательная. Это связано, мне кажется, с менталитетом. Надо учитывать, что это публика преимущественно петербургская, даже не выборгская, а именно петербургская. Поэтому петербургский снобизм сказывается, он на фестивале чувствуется. Нашим режиссерам нужно быть всегда готовыми, что это не такая восторженная публика. Многолетняя история фестиваля и в этом тоже сказывается. Эти люди много смотрели, у них есть свои фавориты, они в кино разбираются. И надо понимать, что на «Окно в Европу» зрители едут целенаправленно. Здесь меньше стихийного туризма, как в Нижнем Новгороде, куда люди приезжают просто на выходные, идут мимо, видят, что идет фестиваль, да еще в театре в центре города, и заходят посмотреть.
Про «Окно в Европу» я буквально в прошлом году узнал интересную историю: поехал в Вологду читать лекцию про фестивали, рассказал про Выборг, его прелести, преимущества, и мне из зала представитель местного турагентства сказала: «Да что вы нам рассказываете про «Окно в Европу»? Мы к вам каждый год отправляем специальные автобусы на фестиваль». Это доказывает, что это смотр, у которого вот такая подготовленная публика. Ну и потом, 33 года фестивалю. Я не говорю, что город устал от него, но он перестал быть для него сенсацией. И это наша новая задача – удивлять, оживлять. Мы ввели Q&A, и я отметил, что обсуждения проходят откровенно, прямолинейно.
А может, просто зрители в целом стали легче воспринимать фестивальное кино? Научились его смотреть?
В принципе, мне кажется, одна из основных функций фестивалей – терапия. Поставка ограниченной дозы специфического кино, отличного от идущего в широком прокате, через которое зритель привыкает смотреть альтернативный контент, начинает понимать, что он есть, что он интересен, что он провоцирует его на живую реакцию. Особенно в контексте таких фестивалей с такой историей, как «Окно в Европу», которые работают на привыкание зрителя к альтернативным формам повествования, изображения, чтобы потом элементарно этого не бояться.
Какие фильмы как куратор вы хотите привлекать в целом на «Окно в Европу»? Что должен снять молодой режиссер, чтобы попасть к вам?
Я скажу, чего мне не хватает в последние годы. Я уже высказался насчет того, что фестиваль 2024 года прошел под знаком РОВЕСНИКА. Этот фильм задал основную интонацию, это молодое и современное кино, и все же это кино о девяностых. Я очень люблю фильм ФИЛАТЕЛИЯ, который в прошлом году обаял и публику, и жюри, но это сугубо авторское кино о неких маргиналиях, жизни где-то у Белого моря, странных людях в духе персонажей ДОРОГИ Феллини. Очень не хватает в наших конкурсах последних лет важного высказывания о сегодняшнем дне. Есть понятные причины – текучая реальность, за которой кино естественным образом не поспевает. Но меня беспокоит ощущение, что кино существует в каком-то вакууме, в каком-то резервуаре, оторванном от реальности, от какой-то боли, от нерва времени. Хочется, чтобы это кино как-то резонировало со временем.
Фото: Геннадий Авраменко