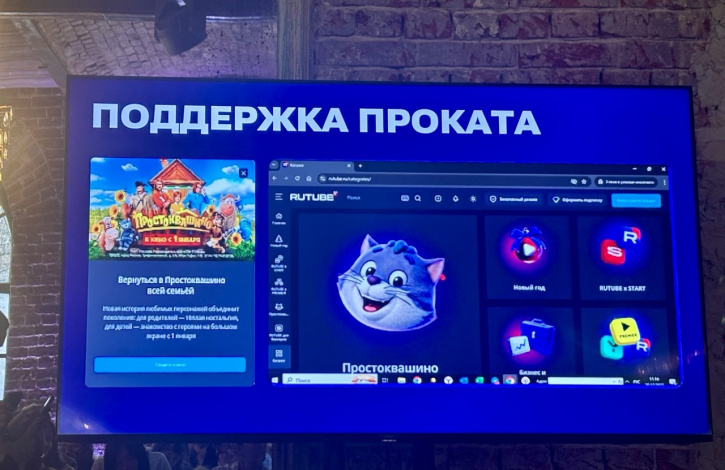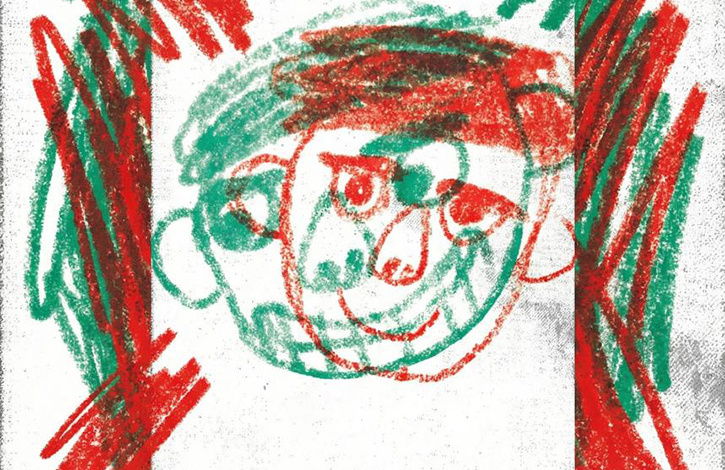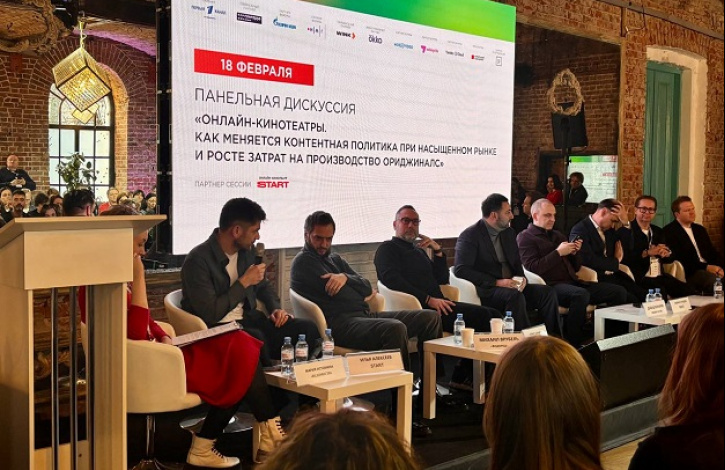Андрей Апостолов: «Сюжеты даже реалистичных фильмов все равно имеют скрытую в фундаменте сказочную природу»

Программный директор «Горький fest» рассказал БК о восьмом кинофестивале и о роли жанра сказок в современной российской киноиндустрии
С 12 по 18 июля в Нижнем Новгороде пройдет VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest», в этом году посвященный теме сказок. Жанр будет обсуждаться во внеконкурсной и деловой программах смотра. Жюри, в состав которого вошли режиссеры Юрий Мороз и Анна Меликян, актриса Юлия Александрова, оператор Денис Аларкон Рамирес, композитор Райан Оттер и кинокритик Василий Степанов, оценит семнадцать проектов конкурса – короткие и полные метры, игровые и неигровые картины. Фестиваль откроется показом комедии ТОПОЛИНЫЙ ПУХ Артема Лемперта с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой, а закроет киносмотр короткометражная лента «Русалочка» Даши Чаруши со Светланой Бондарчук и Максимом Стояновым. Программный директор «Горький fest» Андрей Апостолов подробнее рассказал БК о восьмом кинофестивале и о роли жанра сказок в современной российской киноиндустрии.

Расскажите, пожалуйста, про фестиваль этого года. Чего ждать участникам и зрителям? В чем особенности восьмого смотра?
Тематическая рамка фестиваля в этом году посвящена сказке. Это, конечно, не касается конкурсной программы, которая состоит из лучшего, что было прислано на отбор, и из того, что мы своими силами раздобыли. А вот внеконкурсная, деловая и образовательная программы так или иначе будут следовать сказочной теме. Сказка сейчас – самый модный жанр в российском кино и сериалах, и мы попытались исследовать этот лежащий на поверхности тренд. Кажется, еще пару лет эта тенденция будет в силе, и нам хочется попробовать отрефлексировать ее и как-то зафиксировать, пока она еще только на взлете. Подумать о дальнейших перспективах жанра и о том, что может прийти ему на смену.
Что касается конкурсной программы, то тут я обратил бы внимание на доминирование короткометражных игровых фильмов. Особенность нашей конкурсной программы состоит в совмещении короткометражного и полнометражного, игрового и неигрового кино. Обычно это совмещение разных видов и форматов сбалансировано, то есть примерно все сегменты представлены одинаково. Но вот в этом году получился крен на короткометражное игровое кино, и мне кажется, это неслучайно и показательно. Может быть, документальное и полнометражное игровое кино сейчас более стандартизировано и отформатировано, а короткометражное предоставляет пространство поиска, эксперимента и дает больше воздуха. Более того, множество очень достойных и симпатичных отборочной комиссии фильмов остались за рамками фестиваля.
Как выглядят эти эксперименты? Что интересует молодых режиссеров?
По-разному. Прежде всего в коротком метре есть обращение к каким-то непривычным жанрам, с которыми, может быть, сложнее работать в полнометражном кино, в том числе с точки зрения бюджета. В последнее время в большом количестве появляются условно фантастические и антиутопические фильмы. Конкурсные работы «Мусор» Алексея Митягина, «Побег» Олега Шашкова относятся к этим жанрам. «Белая лошадка» Даши Лихой – вообще кино на грани видеоарта. В полном метре такого не увидишь. В этом смысле короткометражное кино как будто бы сейчас богаче и разнообразнее в формальном смысле.
Еще в конкурсе много регионального кино. Это значит, что его качество стало высоким? Или таким образом вы хотели отдать должное региональному кинематографу?
На этот счет я придерживаюсь принципиальной позиции. Поскольку я интересуюсь региональным кино и слежу за его развитием, даже сам по себе термин «региональное кино» мне кажется не совсем корректным и немного уничижительным. Когда мы говорим «региональное кино», то сразу подразумеваем, что есть кино центральное, федеральное, а вот слово «региональное» как будто сразу делает какую-то скидку. Я как раз ратую за то, что мы не должны делать этих скидок и не должны включать в конкурсную программу фестивалей фильмы, которые нам кажутся не очень качественными, но зато сделаны в регионах. Это, наоборот, только усиливает ощущение периферийности такого кинематографа. Так что представленные в конкурсе проекты, а это и красноярский фильм про Хакасию «Там, где наш дом: Хакасия» Владимира Тарасова и Дмитрия Квашнина, и лента работающего в Республике Марий Эл режиссера Андрея Огородникова «Невесомое», и пермская картина «Мусор», и якутские фильмы «Торбаса» Никиты Давыдова и КОРОЛЬ ЛИР Сергея Потапова не нуждаются в каком-то специальном резервуаре под названием «региональное кино». Уверен, на общем уровне они смотрятся достойно, а может быть, даже более выгодно и приоритетно. Пермь так вообще сейчас выдвигается как столица российского кинопроизводства, без скидок на регион.
Если говорить про игровые проекты, прослеживается ли какая-то сквозная тема в отобранных в конкурсную программу фильмах?
На самом деле мы даже стремимся к тому, чтобы не было сквозных мотивов, чтобы фильмы не рифмовались между собой. РЭДРАМ Ирины Эстерлис – очень личное и очень женское кино, экспериментальное, на стыке фильма и видеоперформанса. Я ТЕБЯ СЛЫШУ Вахтанга Жоржолиани – наоборот, предельно ироничная и условная картина в духе Дюпье. В отличие от этих экспериментальных работ, ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА – совсем другое кино, ближе к фильмам широкого проката. Это фирменный арт-мейнстрим Алены Званцовой с ее особым юмором. Якутский фильм КОРОЛЬ ЛИР с узнаваемым стилем Сергея Потапова, классика якутской театральной режиссуры, связан с театром и снят в более классическом формате.
Все-таки наша задача – представить спектр, срез разных путей, разных форм существования российского кино в современных реалиях. Сам по себе формат такого всеядного конкурса, соединяющего абсолютно разные виды кино, что непривычно для фестиваля, как раз предполагает максимальную дифференциацию, чтобы фильмы были не похожи друг на друга. Иногда на фестивале авторского полнометражного кино, даже в случае сильной программы, может возникнуть ощущение, что смотришь один и тот же фильм. Даже если это в итоге выявляет какие-то тенденции, все равно может утомить. Вот на фестивале «Горький fest» такого не случается. Если представить идеального зрителя, который отсматривает все фильмы конкурсной программы от начала до конца, то он столкнется с каскадом, калейдоскопом, американскими горками. Он увидит абсолютно разные картины, и скорее всего не заядлому синефилу не все из них понравятся. При этом прелесть в том, что здесь любой найдет кино по своему вкусу. Честно говоря, я не могу представить себе зрителя, которому ничего не понравится.
Так как вы позиционируете «Горький fest» как фестиваль нового российского кино, то как бы вы его охарактеризовали в 2024 году?
Разнообразное. Как ни странно, ироничное, что для меня было неожиданно. Среди попавших в конкурс и участвовавших в отборе картин оказалось много фильмов с отчетливой иронией или даже самоиронией авторов. Зачастую эскапистское, как бы бегущее от реальности, не только в каких-то ее актуальных социально-политических проявлениях, а просто с точки зрения фактуры, то есть кино даже чисто на визуальном уровне уходит в какие-то вымышленные миры. И мне кажется, это связано не только со стремительно и драматически меняющейся реальностью, которую люди не успевают отрефлексировать, а еще и с развитием технологий искусственного интеллекта, и в том числе с активной интеграцией искусственного интеллекта в кино. В результате у людей возникает все больше желания уходить от «реальной реальности» в иллюзорное пространство. Неслучайно поэтому внеконкурсная программа посвящена сказкам. Казалось бы, конкурс к сказкам отношения не имеет, тем не менее тренд на уход от реальности возникает и в авторском кино посредством желания создавать какие-то свои, уже авторские, более личные, фэнтезийные, более ироничные, но все равно альтернативные миры.
Сравнивая старые и новые версии сказок в секции «Сказка. Вчера, сегодня», что вы можете сказать о новых сказках? Каковы их характерные черты и отличия от старых?
Между старыми и новыми сказками существует такой большой временной и технологический разброс, что сложно сравнивать мультфильм «Летучий корабль» и полнометражный фильм ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ или сказку ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ 1938 года и картину 2023-го. Поэтому мы не собираемся проводить прямые параллели. Когда между фильмами проходит почти сто лет, это уже совершенно разные явления. Скорее мы хотели продемонстрировать желание современного российского кино подчеркнуть свою преемственность и вписаться в большую, долгоиграющую традицию. Ведь на самом деле можно по-разному определять точку отсчета современной российской киноиндустрии. С большими основаниями можно говорить, что она начинается где-то на рубеже девяностых и нулевых годов, когда возникают мультиплексы, возвращается серьезная государственная поддержка кинематографа и появляются первые российские блокбастеры, условно говоря, начиная с фильма БРАТ 2 или с СИБИРСКОГО ЦИРЮЛЬНИКА. Вместе с тем эта очень молодая российская киноиндустрия хочет продемонстрировать преемственность по отношению к советскому кинематографу и более широкую, обратившись к русскому фольклору, а также к богатому, тоже ушедшему в фольклор популярному кинематографу и мультипликации позднесоветского телевидения. Ведь многие хиты последних лет основаны на культовых сюжетах и персонажах советского телевидения времен застоя и перестройки – Чебурашке, Алисе Селезневой, бременских музыкантах и так далее.
Вы называете героями нашего времени Ягу и Кощея. Почему именно они стали таковыми, на ваш взгляд?
Конечно, тут есть доля иронии. Понятно, что Яга и Кощей – герои нашего времени не в печоринском или багровском смысле, а в смысле абсолютно универсальных персонажей, встраиваемых в любую концепцию. Они кажутся мне интересными в динамике развития последних лет нашего кино, потому что фильмов и сериалов с Кощеем и Ягой снято бесконечное множество. Вроде бы, и чему здесь удивляться? Действительно, это главные фольклорные персонажи, в советском кинематографе они также были активно представлены. Георгий Милляр воплотил у Александра Роу множество таких образов, кстати, играя то Кощея, то Бабу Ягу, в этом смысле будучи единым в двух лицах. Но мне здесь показалось интересным другое. В современных фильмах и мультфильмах это абсолютно разные образы, нет никакой преемственности и нет никакой обращенности к фольклору. Кощей и Яга в наше время из персонажей превратились в архетипические бренды, но совершенно бессодержательные, которых разные авторы наделяют совершенно разным, подчас противоположным содержанием. Кощей может быть молодым, старым, бессмертным, уязвимым или, как в мультфильме КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ, просто-таки романтическим героем, без всякого зловредного ореола.
Вы сказали, что сказки будут популярны еще где-то два года. Почему вы так думаете?
Учитывая, сколько сказочных проектов находится в производстве, этой моды точно хватит где-то на два года. И главное, хватит контента для того, чтобы ее подпитывать, так как в какой-то момент естественным образом наступит постепенное исчерпание идей, потому что все-таки сказок, которые вышли за рамки фольклорных сборников и стали действительно актуальными по сей день сюжетами, на самом деле не так много. Вот такой джентльменский набор сказочных историй и образов будет, во-первых, иссякать, а во-вторых, нам не избежать зрительской усталости от фильмов-сказок, так как аудиторию все-таки нужно снабжать чем-то новым.
Как вы думаете, почему именно сейчас сказки оказались так востребованы?
Обдумывая сказочный бум и задавая себе тот же вопрос, я понял, что на самом деле попытки создавать сказки происходили и в первое десятилетие 21-го века. И, кстати, тоже во многом с оглядкой на позднесоветскую культуру. Даже когда мы говорим про Буратино или Карлсона, это все равно уже адаптированные под советское прошлое персонажи. Были новые подходы к Хоттабычу, была попытка освежить и по-новому поработать с Карлсоном, более удачной была экранизация «Незнайки на Луне», воспринимавшаяся как знак возрождения российского кинематографа. Но тогда индустрия не была к этому готова, с одной стороны, технически, а с другой стороны, все эти сказочные фильмы представлялись попыткой ответить Голливуду. В то время уровень технического отставания от Голливуда и уровень лояльности аудитории к российскому кино были совсем иными. Сказочные попытки нулевых годов воспринимались более настороженно и скептически. Мол, куда нам до замечательных советских оригиналов или до голливудских аналогов, российские картины постоянно сравнивали с ГАРРИ ПОТТЕРОМ. Сегодня фильмы-сказки являются не столько ответом Голливуду, сколько его замещением, и в этом смысле какая-то востребованность им обеспечена, потому что это зрелищные проекты, а зритель зрелища ждет и, может быть, где-то недополучает. К тому же за это время кредит доверия и уровень лояльности аудитории российскому кино все-таки сильно возросли.
Уже давно нет вот этого предубеждения, что при просмотре российского фильма столкнешься с чем-то недостаточно качественным. Теперь люди точно знают, что в СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД будут отличная графика и любимые актеры. Ведь за эти годы возникла и новая система звезд, и участие в картине Александра Петрова и Юры Борисова подогревает интерес зрителей. Также люди идут на МАЙОРА ГРОМА. Может быть, фильм собрал чуть меньше, чем заслуживает, но уровень технической работы, постановки драк, трюковых сцен в нем точно не уступает Голливуду. В этом смысле сказочный тренд закономерно совпадает с выходом российского кинематографа на очень высокий уровень технических возможностей.
Как сказочный тренд в целом влияет на индустрию, на ваш взгляд?
Это будет легче проанализировать чуть позже, уже оглядываясь назад, когда мы будем видеть последствия тренда и что придет ему на смену. Но само по себе интересно, что в индустрии возникла конкуренция за определенные сказочные сюжеты, потому что срабатывает фактор первоочередности. К примеру, две компании работают над «Сказкой о царе Салтане», еще у двух компаний в разработке имеется «Морозко», у двух других – «Лукоморье». Более или менее всем игрокам очевидно, что это достаточно скоротечный тренд, и надо успеть застолбить те или иные сюжеты, пока это еще интересно зрителю.
В то же время, думаю, здесь есть понимание какой-то социальной ответственности индустрии. Долгое время от детского и от семейного контента открещивались, потому что в прокате присутствовали полнометражные мультфильмы и большой поток голливудской продукции. В таких условиях с российским семейным кино было сложно рассчитывать на широкий прокат. Сейчас главенствует абсолютно полярная тенденция, когда магистральный тренд современного российского кинематографа – снимать семейные фильмы и кино для детей.
В чем прелесть такого кино для кинематографистов? Оно долгоиграющее. Вот когда снимается какой-нибудь замечательно актуальный авторский фильм, чаще всего он остается явлением своего поколения. Даже если становится культовым общественным явлением. Могу сказать, что моему сыну фильм КУРЬЕР уже не совсем понятен, картина все равно существует в контексте перестроечного времени и происходивших тогда процессов. А в случае с фильмами-сказками есть надежда на то, что называют плевком в вечность. Если не в вечность, то, по крайней мере, на несколько поколений. Мы уже испытали это на себе. Я не рос в советское время, но рос на советских фильмах-сказках, то есть они пережили советский период. Вот сейчас будут экранизировать сказки Чуковского, например, и если родители читают их своим детям из поколения в поколение уже десятилетиями, почему же точно так же они не смогут смотреть эти сказки?
Расскажите, пожалуйста, о секции «Взрослые сказки» и почему вы выбрали туда каждую из картин.
На эту программу действительно была сделана отдельная ставка, хотя и не все фильмы, которые хотелось, удалось представить в силу технических сложностей. Как минимум секция была придумана, чтобы разбавить поток развлекательного детско-юношеского кино, потому что все-таки фестиваль – это более серьезная, ориентированная на авторское киноплощадка. А с другой стороны, хотелось напомнить, что сказка присутствует везде. И через эти фильмы продемонстрировать, что сказочный тренд – это своего рода обнажение приема, когда кино уже непосредственно начинает говорить на языке сказки. Но даже когда в фильмах нет Кощея и Бабы Яги, нет каких-то явных указаний на сказочность, Белогорья или сказочного леса, все равно приемы, образы, структура наследуют методу, описанному Проппом в «Морфологии волшебной сказки». Так или иначе даже сюжеты реалистичных фильмов все равно имеют скрытую в фундаменте сказочную природу. Потому что сказка – это абсолютно универсальный способ рассказывания истории, который мы впитываем с детства и который мы воспроизводим впоследствии уже во взрослом возрасте. Так что и БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА Андрея Кончаловского, несмотря на полудокументальность картины, содержат в себе сказочные образы и приемы. И даже неигровой фильм ОТЦЫ Юрия Мокиенко. Сказка может быть документальной, драматической, реалистической, криминальной, как СКАЗКА ДЛЯ СТАРЫХ Романа Михайлова или даже БРАТ Алексея Балабанова. Я абсолютно убежден, что Данила Багров – очередная вариация на тему Иванушки-дурачка. Он появляется в истории ниоткуда, абсолютно как фольклорный герой, и отправляется в традиционное сказочное путешествие, где встречает злодеев, которых низвергает, и других людей, которые нуждаются в его помощи. При этом он лишен какого-то внутреннего содержания и рефлексии, во многом потому, что является сказочным героем.
И во всех фильмах программы есть какие-то сказочные отголоски: СЛЕЗЫ КАПАЛИ Георгия Данелии, СКАЗКА СТРАНСТВИЙ Александра Митты (тоже вроде бы сказка, фэнтези, но абсолютно взрослое, драматическое кино), сказочная фантасмагория ПАРАД ПЛАНЕТ Вадима Абдрашитова и Александра Миндадзе, как и ГОРОД ЗЕРО Карена Шахназарова. Мне все-таки хотелось подчеркнуть, что сказочный бум последнего времени – не только блокбастерный тренд. Не только ушлые большие продюсеры поняли, что можно собирать многомиллиардную кассу со сказочными историями. Нет, это то, что сейчас более-менее растворено в воздухе. Действительно 2022-й, 2023-й, 2024-й стали годами сказки в нашем кино. Свою СКАЗКУ снял Александр Сокуров, СКАЗКИ ГОФМАНА сделала Тинатин Баркалая – не только на уровне названия, но и на уровне самой фактуры это абсолютно сказочная история. Любовь Мульменко мы знали как мастера реалистических и бытовых историй. И как драматург, и как режиссер она обычно работала с максимально приближенным к реальности кинематографом. А ее новая картина ФРАУ – абсолютная сказка, что подчеркивается и на уровне визуального решения, и в выборе музыки, и в актерской игре.
А почему, как вы думаете, авторов тоже интересуют сказочные приемы?
На поверхности лежит стремление к эскапизму. Не то чтобы даже желание спрятаться от реальности или непонимание, поиск какого-то языка для описания современности, а скорее желание обратиться к более универсальным и общедоступным формам, потому что время текучей современности, время глобальных изменений порождает дифференциацию. Люди замыкаются в свои сообщества, в какие-то круги по интересам, со своими вкусами, убеждениями или предубеждениями. А сказка еще привлекательна своей универсальностью. Фильм ФРАУ на самом деле немного собрал в кинотеатрах, но я не слышал ни одного негативного отзыва. За счет этой сказочной структуры и тональности в картине есть какая-то даже, не побоюсь этого слова, народность. Мне кажется, это еще и попытка режиссеров, оставаясь на территории авторского кино, искать какие-то более универсальные и общедоступные пути. Делать кино более дружелюбное для зрителя, который не хочет сильно включаться в переживания фильма, что обычно подразумевает авторское кино. Эта сказочность оставляет ему ощущение кинематографического аттракциона.

Как вы выбирали фильм открытия? Почему решили сделать таковым ТОПОЛИНЫЙ ПУХ?
Не буду лукавить: ТОПОЛИНЫЙ ПУХ – прежде всего просто хорошее кино, и, мне кажется, фестивалю важно устраивать премьеру картины с потенциалом прокатного хита. Когда она будет шуметь в прокате, мы будем радовать себя мыслью, что ее путь к зрителю начался с нашего фестиваля. Помимо того, что фильм открытия должен соответствовать определенному уровню кинематографической культуры, ему необходимо вписываться в тональность мероприятия и соответствовать праздничному настроению. И в этом смысле ТОПОЛИНЫЙ ПУХ – идеальный вариант для церемонии открытия. Ну и совсем уже прагматическое соображение состоит в том, что для фестиваля и для зрителей крайне важно, чтобы фильм открытия сопровождался присутствием любимых актеров, как в кадре, так и на сцене, во время представления картины. Благодаря ТОПОЛИНОМУ ПУХУ к нам едут Аглая Тарасова и Антон Филипенко, а это очень ценно для церемонии открытия.
Можете ли вы подробнее рассказать, почему ТОПОЛИНЫЙ ПУХ – хорошее кино?
Как и сериал «Ольга» того же режиссера, Артема Лемперта, с одной стороны, это незатейливое и приближенное к жанру ситкома кино, с другой стороны, оно немного зубастое и реалистическое, узнаваемое. Это абсолютно дружелюбная, доступная зрителю картина, и в то же время в ней есть некоторая острота, пища для ума. Будучи профессиональным телевизионным режиссером, Лемперт очень здорово работает с артистами, это замечательное актерское кино. Работы Аглаи Тарасовой, Виталия Хаева, Антона Лапенко просто отличные. На самом деле есть все ингредиенты для хита.
В прошлом году на открытии мы показали фильм КЕНТАВР, что для нас было большим событием. Тогда я тоже руководствовался подобными соображениями, хотя и понимал, что КЕНТАВР не в той степени, как ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, соответствует праздничной тональности церемонии открытия, так как это жесткий триллер. Но картина была выдающейся с точки зрения актерской работы. Дуэт Юры Борисова и Анастасии Талызиной впечатлял зрителей с первых кадров. ТОПОЛИНЫЙ ПУХ тоже можно назвать праздником актерской игры, и в этом сила фильма, на мой взгляд.
Фильмом закрытия станет короткометражная лента «Русалочка» Даши Чаруши. Почему короткий метр и почему именно эта картина?
Во-первых, «Русалочка» – тоже хорошее кино. Во-вторых, «Русалочка» замечательно соответствует магистральной теме фестиваля и красиво подытожит смотр, посвященный сказке. То, что фильм короткометражный, честно говоря, с самого начала казалось мне очень выгодным для церемонии закрытия, потому что часто фестивальная публика за неделю работы, уже немного утомленная просмотром кино, не остается на премьеру, а уходит на какое-то сопутствующее мероприятие. К сожалению, я неоднократно был свидетелем того, как фильм закрытия начинался в полупустом зале. Это неприятно для создателей и для организаторов фестиваля, и мы стараемся избежать такой ситуации. А вот провести в зале дополнительные 15 минут для того, чтобы посмотреть замечательную картину, ни для кого не будет обременительным.
Что будет интересного в деловой и образовательной программах фестиваля? Какие темы будут обсуждаться?
В рамках деловой программы состоится дискуссия, посвященная нынешнему положению жанра сказки и его перспективам в ближайшее время, где выступят и продюсеры, и прокатчики: Павел Верещагин от «Централ Партнершип», Георгий Шабанов, представитель All Media Group, Юлия Иванова, генеральный директор компании «Марс Медиа», разрабатывающей сейчас множество сказочных проектов, главный редактор СТВ и по совместительству – автор сказочных фильмов этой компании Александр Архипов. Также пройдет внутренний фестивальный питчинг с новыми сказочными проектами, где представители кинокомпаний расскажут о фильмах-сказках, которые сейчас находятся у них в производстве на разных стадиях. У кого-то это может быть презентация и синопсис, кто-то покажет трейлер. Скорее всего мы не охватим весь массив сказочных проектов в разработке, тем не менее многое представим и таким образом расширим наше представление о сказке в сегодняшнем кино.
Что касается образовательной программы, то участников фестиваля ждет цикл лекций и мастер-классов. Ведущий мастер по киносказке в драматургии Александр Архипов, автор сценария ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и ОГНИВО, проведет мастер-класс о том, как написать занимательную киносказку. Андрей Золотарев, вообще мастер разных жанров, в том числе пробовавший себя в сказке, тоже расскажет о связи сказочных приемов и кинодраматургии. Замечательный оператор Юрий Коробейников, сейчас пробующий свои силы в режиссуре и недавно победивший со своим режиссерским проектом на фестивале «Пилот», поведает о связи жанра фильма и его визуального решения.
Как, по вашему мнению, меняется репутация и ценность «Горький fest» в фестивальной среде России за последние два года?
Об определенном статусе фестиваля свидетельствует то, что серьезные компании готовы сами обращаться к нам со своим фильмом и отдавать нам премьеру. Также в нашем достаточно тесном киносообществе, где все друг друга знают, идет положительный «сарафан» об атмосфере фестиваля. И это мне кажется важным слагаемым фестивального успеха в целом. Одни люди говорят о том, что на фестивале в Нижнем Новгороде классно, другие это слышат и хотят туда приехать. В результате это и приводит к тому, что серьезные кинопроизводители, которые уже были на фестивале, или, наоборот, которые хотели там побывать, готовы отдавать нам премьеры своих новых проектов.
Часто в фестивальной программе разделяют кинопоказы и фестивальный антураж, какие-то вечеринки, деловые мероприятия и так далее. Мне кажется, не надо этого делать. И на самом деле уровень «Горький fest» как культурно-досугового мероприятия, который мне представляется очень высоким, способствует и усилению уровня программы. Когда я впервые оказался на «Горький fest», то был изумлен масштабом фестиваля: показы фильмов проходят на огромном стадионе с несколькими тысячами зрителей или на большом экране на набережной Волги, когда люди смотрят кино и параллельно наблюдают красивейший нижегородский закат. Главные показы конкурсной программы проходят в нижегородском драмтеатре, и по формату, и по атмосфере они сопоставимы с премьерами «Кинотавра» в здании Зимнего театра. Так что по инфраструктуре, организации и атмосфере, мне кажется, «Горький fest» – один из ведущих фестивалей.
Как в целом вы оцениваете фестивальное движение в России за последние два года?
Фестивальное движение стремительно растет, и, как мы любим шутить, фильмов на все фестивали в России уже не хватает (смеется). На самом деле в этом есть доля правды. Тем более мы все еще зациклены на премьерности. Регламент «Горький fest» не требует премьерности, и мы пользуемся этой лазейкой. В частности, в прошлом году победителем стал фильм Романа Михайлова НАСЛЕДИЕ, это был его второй показ, а премьера состоялась на «Примере интонации».
Для многих фестивалей отсутствие «Кинотавра» стало фактором какого-то изменения статуса. «Короче» сменил формат, добавив программу дебютных полных метров, чуть по-другому начало работать «Окно в Европу», появились «Зимний», «Маяк», «Новый сезон» и «Одна шестая». То есть фестивальное движение сейчас в России действительно очень мощное, при этом, мне кажется, не хватает какого-то пространства диалога. Межфестивальная коммуникация необходима для того, чтобы фестивали из отдельных, как бы таких культурно-кинематографических явлений превратились в движение. Сегодня мы наблюдаем фестивальное множество, фестивальное разнообразие, но есть ли в России фестивальное движение – большой вопрос. Это понятие должно подразумевать какой-то больший уровень взаимодействия, понимания разных ролей разных фестивалей и осмысления того, что мы можем дать друг другу и киноиндустрии, объединившись или, по крайней мере, налаживая какой-то диалог.
А как могла бы выглядеть эта межфестивальная коммуникация?
В этом году в рамках выставки «Россия» состоялось мероприятие, посвященное российским кинофестивалям, где принимали участие Дмитрий Давиденко, Антон Малышев, Алексей Герман-младший, Полина Зуева, Мария Зверева, Дмитрий Якунин, модератором выступила Сусанна Альперина. И это уже было какое-то пространство общения и возможность обмена мнениями. На самом деле в наших силах и в наших интересах организовывать как можно больше таких мероприятий даже в рамках наших фестивалей, где мы могли бы обмениваться каким-то опытом или предложениями.
С другой стороны, можно рассматривать гораздо более конкретные вещи. Скажем, сейчас все, кто работает на российских фестивалях, сталкиваются с проблемой прокатных удостоверений. К примеру, в анимационной и документальной секциях фестиваля «Окно в Европу» всегда участвуют ученические работы из киношкол. А киношколы зачастую, особенно государственные учебные заведения, являются правообладателями фильмов студентов, которые снимаются в процессе обучения. При этом киношколы не всегда озадачиваются вопросом получения прокатных удостоверений, соответственно, мы не можем включить какую-то работу в программу фестиваля, даже если она нам кажется достойной. Каждый фестиваль решает эту проблему самостоятельно: либо помогает режиссерам взять на себя решение вопроса с прокатным удостоверением, либо обращается в министерство культуры с просьбой выдать прокатное удостоверение для учебного фильма на один показ.
Если бы у нас было более консолидированное движение, мы разработали бы какие-то механизмы, способные помочь решать подобные технические вопросы. Мы все заинтересованы в премьерных работах, и часто режиссер успевает за неделю до фестиваля закончить фильм, и, казалось бы, мы могли бы уже его показывать. Но возникает вопрос прокатного удостоверения, для получения которого необходимо время. Даже несмотря на то, что в последние годы процедура упростилась и перешла в цифровой формат. В этом плане нам также помог бы какой-то специальный механизм для ускоренного рассмотрения подающихся на фестивали фильмов.
Авторское кино все меньше привлекает зрителей на больших экранах. К чему это приведет, на ваш взгляд?
Когда мы говорим, что оно все меньше привлекает зрителя, это звучит так, как будто был момент, когда оно очень сильно привлекало зрителя. Мне как-то сложно вспомнить такое время, честно говоря (смеется). Я убежден, что не все кино должно ориентироваться на то, чтобы зарабатывать миллиарды. Когда-то Никита Сергеевич Михалков говорил, что идеальная форма развития киноиндустрии – это советское кино семидесятых, когда, с одной стороны, были Бондарчук и Озеров с их блокбастерами, а с другой стороны – Тарковский. Думаю, в этом наблюдении есть высокая доля справедливости, потому что пусть даже авторское кино является достоянием не самой широкой публики, но очень важно, чтобы публика имела такую альтернативу. Чтобы не все кино сводилось только к развлекательной функции, потому что, уверяю вас, это тоже очень быстро утомит зрителя, и он все равно будет искать кино, которое будет говорить ему что-то важное про него здесь и сейчас. А если этого не будет в отечественном кино, он будет это искать в зарубежном.
В этом смысле я всегда вспоминаю максиму моего вгиковского преподавателя Армена Николаевича Медведева, который когда-то возглавлял Госкино и был министром кинематографии. Когда ему пеняли на то, что в кинематографе девяностых мало зрительского развлекательного кино, он говорил, что, несмотря на финансовые и технические трудности, никто палки в колеса не вставляет и никто ничего не имеет против развлекательного кино. Более того, готовы поддерживать, но главное – помнить о том, что сладкое розовое очень быстро превращается в серое, во что-то однородное и неоригинальное. На самом деле авторское кино всегда дает подпитку индустрии, значительно влияя на развитие большого мейнстримного кинематографа. Вот, например, Александр Яценко, большая звезда российского кино, абсолютно узнаваемый актер для любого зрителя и после ПРАВЕДНИКА, и после популярнейших телесериалов, и после МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ, когда-то пришел из авторского кино. Или Евгений Цыганов когда-то был актером авторского кино, потом – арт-мейнстрима, а теперь он – суперзвезда российского кино.
Не нужно забывать, что в авторском кино открываются новые темы, какие-то новые приемы и даже география. Сейчас много говорят о расширении географии российского кино, о том, как много снимается и на Урале, и на Кавказе, и в других регионах. Но ведь это кино получило признание через авторские фильмы: по-настоящему раскрылись ученики Александра Николаевича Сокурова с его первой кабардинской мастерской, стало феноменом якутское кино, которое мы сейчас уже трактуем в широком смысле, так как появляются и якутские жанровые картины – хорроры, комедии. Так что когда мы задаемся вопросом, смотрит ли широкий зритель авторское кино и нужно ли оно вообще, мне кажется, мы просто не до конца осознаем даже ту роль, которую оно играет в кинопроцессе.
А с другой стороны, то, что широкий зритель в кинотеатрах не смотрит авторское кино и оно не собирает баснословную кассу, тоже нормально, так всегда было и в России, и в других странах. Европейское авторское кино тоже не дает грандиозных сборов и не вступает в конкуренцию с блокбастерами. Просто нужно помнить, что существуют другие каналы и другие источники. В этом смысле мне кажется очень важным возвращение телепрограммы «Закрытый показ». К ней можно по-разному относиться, но я не знаю лучшего средства донесения авторской продукции до широких масс, чем вечерний эфир Первого канала. Нет никакой проблемы, если кому-то эти фильмы не понравятся, но то, что какой-то человек через вот такой просмотр приобщится и вообще узнает, что существует альтернатива широкому прокату, дорогого стоит. Это один из тех примеров, когда нужно смотреть не на количественные, а на качественные показатели.
Можно найти фильмы, собравшие в прокате миллиард, но получившие от зрителей на «Кинопоиске» среднюю оценку 5 баллов. А можно обратить внимание, к примеру, на фильмы ФРАУ и СВЕТ, которые не собрали больших денег, но получили яркий отклик у зрителей. Я проводил несколько раз публичные показы СВЕТА Антона Коломейца и был совершенно поражен, когда зрители один за другим говорили, что это кино про них и про их матерей. Очень важно, когда люди смотрят кино про себя. И это то, чего им не дадут фильмы-сказки. Это не значит, что фильмы-сказки хуже, просто они не для этого предназначены.
На мой взгляд, очень показательно и закономерно, что на фоне сказочного бума, рядом с такими блокбастерами, которые один за другим выходят в прокат и становятся визуальными аттракционами (а меня действительно восхитил технический уровень фильмов СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД и МАЙОР ГРОМ: ИГРА), как пространство какой-то альтернативы существует в хорошем смысле кустарное кино Романа Михайлова. И в нем начинают сниматься звезды, потому что там они ищут какой-то другой опыт. И эти фильмы начинает смотреть зритель. Понятно, что не самый широкий зритель, но на спецпоказах эти картины стабильно собирают полные залы. Людям это кино интересно, потому что оно непредсказуемо, неформатно. Жанровые конвенции, когда известно, как будут развиваться события и как будет выглядеть фильм, тоже уже утомляют. А вот в картинах Михайлова есть какое-то пространство для неожиданности, даже для чудачества. И замечательно, что в нашем кино такое явление случилось. Будем надеяться, что Роман Михайлов в этом плане не уникальный феномен, не вещь в себе, а начало нового тренда на абсолютно независимое кино и в смысле правил, и в смысле источников финансирования, потому как известно, что снимается это кино по общим меркам очень дешево.
Фото: пресс-служба «Горький fest»