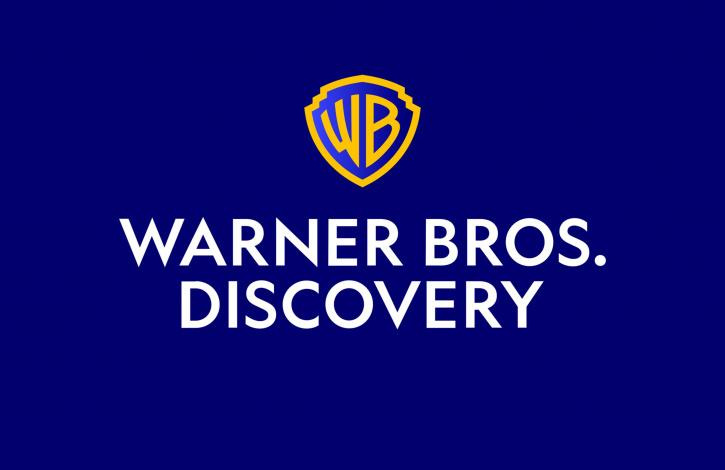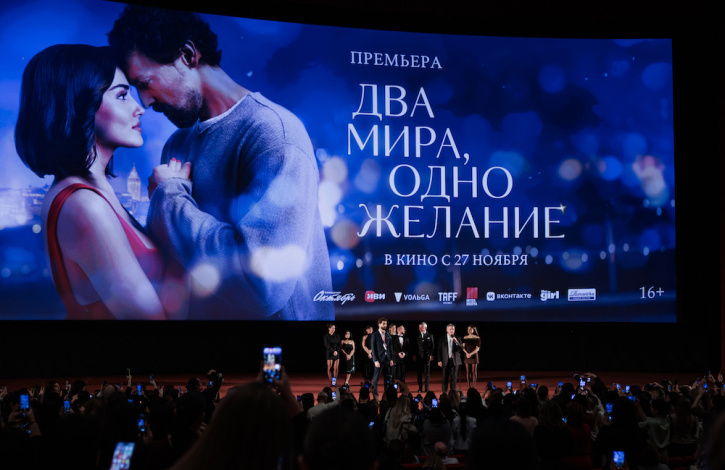Андрей Зайцев: «Для меня спальный район – это абсолютно понятное существо»

Режиссер фильма «14+» о своем проекте в конкурсе «Кинотавра»
14+ режиссера Андрея Зайцева (известного документалиста и автора культовых БЕЗДЕЛЬНИКОВ, вдохновленных песнями Цоя) существует вне шаблонов, которые принято приписывать российскому артхаусу. Впрочем, этот фильм и артхаусом назвать сложно, даром что он был отобран в программу Берлинале – это кино, пусть и стопроцентно авторское, ориентировано прежде всего на зрителя. История взросления и трогательной первой любви происходит «на районе» с его вездесущими гопниками, монструозными многоэтажками, школьными дискотеками и драками, семками, «баночками», коврами и обоями в цветочек. Но эта среда выглядит обыденной и вполне дружелюбной, какой она и является для миллионов россиян, выросших среди этих дворов и скамеек и по-прежнему считающих спальные районы своим домом. В фильме нет социального надрыва и дидактизма или, наоборот, телевизионной искусственности, не имеющей с реальностью ничего общего – герои принимают эту жизнь как данность. И по большому счету в голове крутится один вопрос: почему голос городских окраин до сих пор так мало слышен в современном русском кино?
Первый раз вы показали 14+ аудитории в Берлине. Какая была реакция?
До того мы не показывали картину нигде, кроме монтажной, и никому, кроме друзей-режиссеров. В Берлине первый показ прошел в зале на 700 человек. Они как начали смеяться с первых кадров, так и хохотали весь фильм, а потом к детям выстроилась очередь за автографами минут на сорок. То, что кино оказалось зрительским и абсолютно понятным даже немцам, для меня большой успех. Мы так и хотели снять: чтобы сюжет, эмоции были понятны и без слов. Это история про первую любовь, а спальные районы есть в каждом большом европейском городе, так что ситуация узнаваемая.
А вы считаете 14+ комедией? И в связи с тем, что фильм попал в программу Generation, ориентированную на детей и подростков, вы определили бы его как детское кино?
Мы, честно говоря, сами запутались. Сначала мы определили жанр как юношескую или подростковую мелодраму. Это ни в коем случае не детское кино, потому что обычно оно ассоциируется с сюсюканием, а у нас не про то. Мы вообще не ожидали, что попадем в Generation. Конечно, мы снимали фильм о подростках и прежде всего для подростков, но не думали, что угодим в эту нишу, все-таки это взрослое кино. Однако оказалось, что мы четко попали в эту аудиторию. И выяснилось, что в фильме очень сильный комедийный элемент – мне это тоже очень нравится. Например, один из моих любимых режиссеров – Данелия – умеет соединять грустное и веселое: выходит не чистая комедия, как у Гайдая, а смешно, но при этом и серьезно – как в МИМИНО, ОСЕННЕМ МАРАФОНЕ. Как выяснилось по реакции зрителей, у нас тоже получилась похожая смесь.
14+ выглядит как ода любви к спальному району. Вы выросли в таком районе?
Да, в фильме многое про меня – мои воспоминания, ощущения. Я вырос в Бабушкинском районе Москвы, мы там и снимали. Гораздо проще снимать в местах, которые ты очень хорошо знаешь – закоулки, подъезды, детали. Это своеобразное прощание с детством – я запечатлевал то, что уже не вернуть. Если хочешь делать кино и быть искренним, то лучше говорить о том, что очень хорошо знаешь, чувствуешь и понимаешь. БЕЗДЕЛЬНИКОВ мы снимали тоже в спальных районах, в тех квартирах на первом этаже, где сами выпивали и куда залезали через окна. Для меня подобный район – это абсолютно понятное существо. В 14-15 лет ты даже особо из него не выезжаешь, живешь, как в подводной лодке, проводишь дни в подъездах, на детских площадках… У тебя только два мира – дом, где родители, и улица, где ты тусишь.
Этот мир улицы с гопниками на каждом углу кажется жестоким, но дети в фильме воспринимают это как нечто обыденное и не такое уж страшное.
Ну вот Германика сняла об этом ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ. У меня тоже такое было – дискотеки, драки и так далее. Я все хорошо помню, но мне хочется снимать не про это, а про измененное состояние влюбленности. Часть фильма мы снимали в Медведково, где на каждом шагу валялось по использованному шприцу. Понятно, что там происходит много чего кошмарного. Так было всегда и, наверное, так и будет, но я не вспоминаю свое детство с ужасом. Там же, на улице, случается первая влюбленность. Начинают играть гормоны, и вся твоя жизнь – это только состояние этой влюбленности. Вот ты влюбился в девочку из параллельного класса, даже не знаешь ее имени, но только о ней и думаешь: пришел в школу, ее нет – все, весь день испорчен. Или вдруг она на тебя посмотрела, улыбнулась и сразу отвернулась – и ты ходишь, как пьяный, а потом всю ночь прокручиваешь этот момент в голове. Во время съемок для нас была принципиальной солнечная погода – нужно было передать ощущение подростковой влюбленности. Все преображается – серый, однообразный спальный район становится красочным, солнце светит сквозь листву и отражается в окнах, девушки ходят в ярких коротких юбках… А лето было самое пасмурное за многие годы, и мы долго гонялись за этим несчастным солнцем.
Фильм не просто о любви – он еще и о взрослении, и об отношениях с родителями. Там, например, есть очень смешной и трогательный персонаж – мама.
Взаимоотношения с родителями – одна из основных тем фильма. Я сам вырос без отца, и эта ситуация мне хорошо знакома. Как я говорил, дом – это один из двух миров, которые ты знаешь. Ты попеременно окунаешься в проблемы то дома, то улицы. Мне действительно хотелось рассказать об этих взаимоотношениях – замечательной, трогательной молодой мамы, у которой не складывается личная жизнь, и стремительно взрослеющего ребенка. Она не успевает адаптироваться к этим изменениям, потому возникают и драматические, и комические ситуации.
А сильно ли изменилась жизнь в спальных районах за эти годы? Например, социальные сети, которые фигурируют в фильме, наложили какой-то отпечаток?
Ничего принципиально не поменялось – те же самые люди, те же самые типажи. Разве что на улицах сплошные иномарки, а в квартирах – плазменные телевизоры. Ну да, все дети общаются через «ВКонтакте», а у нас тогда не было даже мобильных. Но по большому счету это ничего не меняет: те же тусы на районе, те же скамейки, то же пиво, те же семки. Хотя «ВКонтакте» для них – это очень важно: фото, тусовки, музыка, статусы типа «влюблен» или «в активном поиске». Если у тебя нет аккаунта, ты выпадаешь из тусовки, потому что весь класс общается именно там, всю информацию получают оттуда. Они даже SMS не посылают, а пользуются приложением «ВКонтакте» на телефоне. Но это единственная вещь, которая поменялась, суть осталась все та же.
«ВКонтакте» сыграл важную роль и в организации съемок.
Да, мы потратили очень много сил на поиск детей на главные роли через «ВКонтакте». Это открытая система, в отличие от «Фейсбука», – все в доступе, если ты не блокируешь свою страницу, и есть практически каждый школьник. Мы забивали номер школы, возраст от 14-ти до 16 лет, смотрели фотографии и приглашали на кастинг тех, кто казался нам интересными, яркими личностями. Главного героя нашел я – увидел его рэперские ролики. Есть еще такое странное явление: если кому-то нравится парень или девчонка, они начинают воровать его фотографии и вывешивать вместо своих. В какую школу ни зайду – натыкаюсь на фотографии Глеба Калюжного. Еще до съемок у него было порядка восьмидесяти фейковых аккаунтов, и только потом я понял, в чем дело. «ВКонтакте» мы нашли и несколько других героев, так что это оказалось суперской вещью – не нужно было ездить по школам, фотографировать испуганных детей, и при этом фотографии ничего не говорили бы о самих детях. По аккаунту «ВКонтакте» было сразу понятно, что у них за характер, есть ли какие-то актерские, в хорошем смысле хулиганские задатки.
Но это все равно огромная работа.
Вообще-то да. Каждый вечер я просматривал по десять-двадцать школ и отправлял страницы детей ребятам, которые подбирали актеров. Но я скажу, что для тех ярких личностей, которых мы нашли, не было запасных вариантов: если бы Глеб или Ульяна отказались, мы не смогли бы снять кино. Все остальные претенденты были хорошие, но средние, а на среднем уровне нельзя вытянуть картину, нужна очень яркая индивидуальность, которая способна держать весь фильм. И, как ни странно, интересных парней было гораздо больше, чем девчонок – из них никто даже близко не мог сравниться с Ульяной.
А что произошло с Челентано, музыку которого вы хотели использовать?
Когда мы отобрали детей на главные роли и начали репетировать, то выяснилось, что никакого Челентано они не знают, и я понял, что страшно сужаю историю: она не про них, а про то, каким я помню свое детство. Мы решили, что Челентано был бы стратегической ошибкой, и оставили только одну его песню в самом начале. Без нее я не представлял кино, она задает настрой, мы даже отъезд от дома в начале снимали под эту музыку. Я попросил детей сбрасывать мне треки, которые им нравятся, и нашел много интересного, а фильм от этого стал гораздо объемнее, богаче. Эклектика совершенно точно передает их мир, когда у них на странице «ВКонтакте» по полторы тысячи самых неожиданных песен – от Надежды Бабкиной до жесткого рэпа. Это такой возраст, когда живешь, не вытаскивая наушники. Дети даже на съемочную площадку приходили, слушая музыку в своих телефонах и айподах, или забирали у меня ноутбук и включали свою музыку. Это часть их жизни.
Сцену с ковром, наверное, полюбят многие.
Это реальная история: у моих знакомых мама выпила с подружкой, и они обнаружили на ковре сглаз. У меня точно такой же ковер висел дома – это что-то родное. Мы воссоздавали облики квартир, в которых живут сегодня дети и в какой я жил двадцать лет назад, и опять же использовали фотографии из «ВКонтакте»: я сбрасывал их художнику-постановщику и говорил, что хочу такой стол, такие обои, обязательно – ковер. Ничего не меняется в спальных районах, и ковры по-прежнему висят.