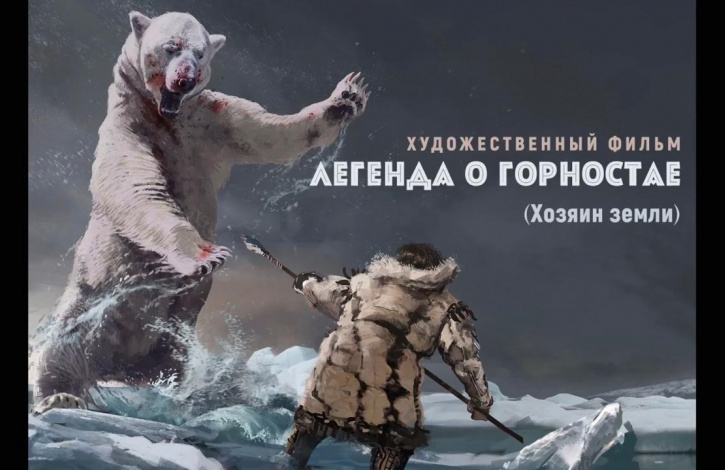Сергей Члиянц: «Если бы я не взял сценарий “Ветра”, то вообще, наверное, не смог бы ничего снять»

БК встретился с создателем драмы «Ветер», чтобы обсудить ее смыслы, ее аудиторию и то, как универсальность сочетается в ней с актуальностью
3 ноября в Москве состоялась премьера драмы ВЕТЕР – второй режиссерской работы Сергея Члиянца, продюсера таких знаковых для истории современного российского кино фильмов, как БУМЕР, ЖИВОЙ и ОКРАИНА. БК встретился с создателем картины, чтобы обсудить ее смыслы, ее аудиторию и то, как универсальность сочетается в ней с актуальностью.
Давайте начнем с главного. Если говорить о месседже ВЕТРА – как вы сами его для себя формулируете? О чем эта картина?
Это один из тех общих вопросов, которые всегда задают. Что вы имели в виду? Что вы хотели сказать? Что вы вкладывали в картину? Вы не поверите, но правильный ответ знаете, какой? Да ничего.
Это очень хороший ответ.
ВЕТЕР – о том, на что способен мужчина ради женщины во имя любви. В том числе. Но содержание фильма возникает в зрителе, в аудитории. Луцик и Саморядов создали не просто персонажей, а узнаваемые архетипы. Миф универсален, и он раскрывается индивидуально в душе каждого зрителя. Что вы вкладываете, когда сидите с друзьями у костра или на кухне и рассказываете про Васю, что он опять набедокурил? Никто не знаком с Васей, но если вы при этом талантливый рассказчик, то все уже как будто бы знают Васю, у них в голове он оживает. А сами вы что вкладывали? Да ничего, вы просто людей увлекли. Заметьте, это можно назвать развлечением, а можно назвать увлечением. Но содержание фильма возникает в кинозале.
Нам совершенно необходима отраслевая государственная продвиженческая кампания «Смотрите кино в кинотеатрах». И не потому что это большой экран. Не потому что это эффекты, хотя и это тоже: большой экран интересней. Например, мой фильм по телевизору и на большом экране – это два разных фильма. Но смотреть нужно в кино, в кинотеатре по другой причине, о которой никто не говорит: коллективный просмотр. Вот то главное, ради чего был создан древнегреческий театр – когда сидят люди плечо к плечу, локоть к локтю, смотрят на сцену, а сейчас – на экран.
И мы же начали с вами со смыслов? Мой фильм еще не вышел, было всего два публичных показа, и уже сейчас, после двух показов, некоторые люди умнее меня и намного лучше меня образованные рассказывают мне о моем фильме то, чего я просто не знаю.
Ваш фильм буквально напичкан различными сказочными, мифологическими образами. Можете ли вы рассказать о них подробнее?
Что такое, например, гигантская рыба или другие подобные образы? Это элементы сказочной структуры. Для меня это царь-рыба. Ее трогать опасно. Она же царь. Что, собственно, и доказывает дальнейшее развитие событий. Вообще можно было бы сказать, что мой фильм – сказка. Может быть, злая сказка. Иван, его соратник Сергей Волков, море (по колено), тема жертвоприношения, покаяния – все это узнаваемо и можно по каждому образу диссертацию написать, но это дело критиков и публики.
В течение трех лет производства фильма мы пытались придумать для него название. Я объявил, что придумавший получит премию. ВЕТЕР – это авторское название Луцика и Саморядова, но оно не очень продающее. И, объявив конкурс на название, мы пришли к пониманию, что, к сожалению, лучшее название для моего фильма – «Особенности национальной рыбалки» (смеется). В общем, ВЕТЕР оставили. И хорошо: ветер – он же везде! Все, кто сейчас работает над выпуском фильма, все время замечают вокруг себя ветер. Представляете, какой продакт-плейсмент? Люди сходят в кино, и любое движение воздуха, любой порыв ветра будут ассоциироваться у них с моим фильмом.
В общем, я повторюсь: содержание фильма возникает в зрительном зале. Поэтому чтобы оно в принципе рождалось, нужен зрительный зал, коллективный просмотр. И последнее: если вы замените зрителей в зале, то вы замените содержание фильма. Понимаете, какой парадокс?
Как вернуть зрителей массово в зал?
Коллеги пытаются различными кассовыми релизами, но мне кажется, что они не пытаются вернуть людей в зал качеством кино. Они пытаются вернуть людей в зал мощностью маркетинговой кампании. Мы важность рекламы тоже понимаем и не отстаем. Конечно, мне хотелось бы, чтобы фильм продавал себя сам, своим качеством, содержанием. Но неразумно было бы с моей стороны идти на принцип и не использовать все доступные сейчас инструменты продвижения вроде трейлеринга и таргетинга, на которых настаивают мои продюсеры. Но моя команда не перестает меня удивлять. Вот, например, они договорились об инфопартнерстве с сервисами доставки еды. Представляете? Казалось бы, где то самое содержательное кино, о котором мы с вами говорим, и где доставка готовой еды. А вот же, придумали.
И все-таки главной движущей силой любого продвижения должен являться сам продукт, который ты продвигаешь. При равном объеме маркетинга и равном уровне упаковки фильма выиграет тот, который лучше сам по себе, лучше содержательно. Если взять какой-нибудь содержательный фильм и какой-нибудь патриотический блокбастер и поставить их в равные условия (равный зал, равный маркетинг), то в любом случае, конечно, патриотический фильм, будучи очень дорогим в производстве и визуально богатым, зрелищным, выиграет – только не в тысячу раз, а, может быть, в десять. И я вижу сейчас колоссальную проблему, о которой уже нельзя не говорить и необходимо что-то с ней делать – это чудовищная поляризация по краям отрасли.
Мы имеем несколько источников финансирования большого, сложнопостановочного кино, которое стоит условно миллиард, – это Фонд кино, платформы, телеканалы. И мы имеем два источника финансирования содержательного, назовем его так, кино – это министерство культуры и фонд «Кинопрайм». Иногда случаются частные инвестиции, но это скорее что-то спорадическое. Так вот, проблема – это отсутствие источника финансирования кино, лежащего посередине. Потому что именно кино, лежащее посередине, между блокбастером и артхаусом, – это и есть основа любой национальной кинематографии в любой стране. Нам нужна серьезная профессиональная дискуссия на эту тему.
Отдельный вопрос, что такое касса среднего размера и как вообще прогнозировать сборы. Тайный расклад карт в прокатном пространстве непостижим. Никто не знает, как живет зрительская энергия, как приходит интерес, откуда берутся пустоты, что такое отложенный спрос. Но даже при падении общего интереса к кинотеатральным фильмам оно все-таки сохраняется. Вопрос, как оно живет, можно ли это программировать. Многие игроки индустрии – как те самые военачальники, которые готовятся к вчерашней войне. А война новая, это показывает ход истории. И в прокатном пространстве каждый раз ты, сталкиваясь с задачами получаешь новую ситуацию. Можно было бы типизировать все эти процессы и задачи. Но у нас есть некие общие отраслевые задачи. И о них можно было бы разговаривать как с государством, так и друг с другом. Но я этой дискуссии, к сожалению, не вижу.
А вам кажется, что государство сможет помочь вот эту поляризацию снять?
Конечно. Она же снимается двумя решениями. Первое – отменяется верхний лимит на финансирование министерством культуры. Второе – оценивать проекты надо сущностно, содержательно. Да, очень важно, кто их принес. Да, может быть, действительно следует ввести понятие лицензированной продюсерской деятельности при работе с государственными деньгами. Я не считаю, что это был бы некий инструмент цензуры или ограничения на рынке. Сейчас продюсеры – это все, кто отучился в коммерческой киношколе на соответствующих курсах. Это смешно. Пойдите поработайте к Сельянову, к Верещагину, научитесь чему-то. Вы видели, какие титры в наших старых фильмах? Там вообще иногда нет слова «продюсер». А сейчас их там по двадцать человек. Эту ситуацию нельзя исправить, кроме как каким-то общественным порицанием. Давайте перестанем вручать призы продюсерам за лучший фильм. Давайте эти призы вручать сценаристам. Потому что это самая важная и самая проваленная сегодня профессия. И у меня еще есть радикальная идея: давать деньги проекту. То есть режиссеру, сценаристу, инициатору. Среди них даже может быть какой-то продюсер. Но чтобы потом режиссер мог выбрать себе продюсера для решения ряда организационных задач. Ведь когда люди нетворческие руководят людьми творческими, получается плохо. Но, например, такие крупные режиссеры, как Лунгин, Учитель, Попогребский, Хлебников, в состоянии сами для себя организовать производство. В моей практике всегда было такое правило: если я не убедил режиссера в своей правоте, значит, я неправ. И значит, делаем так, как хочет режиссер. А принцип «я плачỳ, а ты будешь делать» я не исповедовал никогда. Считал, что в нашей кинематографии этот принцип не приживется, и он и не прижился. Когда продюсеры ломают режиссера, высушивают фильм, заставляют его снимать тех или иных актеров – нехорошо это все.
Как появился ВЕТЕР? Почему вообще вы решили начать с ним работу?
Потому что из всего, что лежало в моем столе, он был лучшим. У меня были еще интересные сценарии, оставшиеся от моих друзей до моего ухода из кино. Там были всякие интересные вещи Юры Короткова, Гены Островского. Но этот сценарий был очевидно современным. Хотя Петя и Леша написали историю еще в девяностых про недалекое будущее, она происходит в каком-то безвременье, поэтому не теряет своей актуальности. Это фильм про то, что будет, если... Если мы не протрезвеем. Что будет? А вот это будет. Хотя там нет никакой катастрофы или апокалипсиса. Это все-таки такая недобрая сказка от Алеши Саморядова и Пети Луцика.
Но лично для меня это история, все-таки связанная с гордыней, с поисками смысла и Бога. Я ведь не бытописатель нравов русского народа. Это как раз удел Саморядова с Луциком. Один из Оренбурга, другой родился под Киевом. Они очень многое про это знали. И они создали мир под названием «Где-то там, в диком поле». Это огромная территория – от Урала до Дуная. И там живут особые, большие люди. Саморядов ругался по поводу всех фильмов, снятых по их сценариям, следующим образом: «Мы пишем про гигантов, а вы снимаете карликов». А гиганты в русском кино или вообще в русской культуре – это люди, пережившие нечто.
Материал Луцика и Саморядова очень сильный. Я, если бы этот сценарий не взял, вообще, наверное, не смог бы ничего снять. Потому как это очевидно хороший сценарий. В нем есть внутреннее качество архитектуры, композиции, все структурные элементы этого сценария надежны. То есть я (как повторно дебютирующий режиссер) посчитал, что мне все-таки экспериментов над собой не надо ставить. Мне надо взять настоящий сценарий, который меня застрахует от ошибок. Хотя такие сценарии снимать опасно. Это вроде бы высокое искусство, серьезное кино большого стиля.
А еще Петька мне подарил этот сценарий перед смертью. И как-то мне казалось: ну что я сейчас буду искать что-то новенькое? Это во-первых. А во-вторых, был ковид. Где искать-то? Куда ходить? С кем встречаться? Я сижу дома. У меня, кроме книг Короткова, Тодоровского, книг о Балабанове, книги Луцика и Саморядова, ничего нет. Даже архив у меня черт знает где остался. И я сидел, перечитывал что-то и понял, что вот же он. ВЕТЕР и ДИКОЕ ПОЛЕ – это две части одного сценария. Одной киноповести, точнее. Она была когда-то написана как некий единый текст, а потом к нему добавилась еще ОКРАИНА. Там даже совпадают имена, фамилии персонажей.
Поэтому причина простая: я как дебютант считал правильным снять картину максимально профессионально, чтобы показать моим друзьям, коллегам, что я не выживший из ума старик, решивший порежиссировать на склоне лет, а еще могу работать как режиссер, потому что это вообще-то моя профессия. Я начинал как режиссер, а в продюсеры попал случайно. И вся моя продюсерская деятельность для меня случайна. Каждый год я говорил себе, что завязываю. Но это как из криминального мира – уйти трудно.
Я всегда принимал какое-то серьезное участие в жизни своих фильмов, и мне казалось этого достаточно. И вообще, до эпохи перемен мне казалось, что работа продюсера очень интересная, творческая такая. И бог с ними, с рисками, она интересная, она бодрит. Чувствуешь себя в тонусе, в высшей лиге. Работать продюсером в девяностые годы и в начале двухтысячных было драйвово. А вот потом, когда мы создали рынок, пришли системные инвесторы и возникло то перепроизводство, которое мы сейчас и наблюдаем – и которое стало одной из проблем отрасли.
Сегодня хочется взять бюджет одного блокбастера и потратить на бесплатное образование сценаристов и режиссеров. На привлечение к этому процессу настоящих мастеров, способных преподавать. Как Алеша Попогребский – увлекся своими студентами и преподает. И вот вам результат.
В общем, возвращаясь к фильму: у меня была простая, утилитарная задача – снять дебют. Показать своим друзьям, коллегам: смотрите, я умею работать с артистами? Я могу ставить кадр, камеру, работать с группой? Если да, то дайте мне работу. Я хочу работать и я могу работать. Вот и все мои задачи. А для того, чтобы это было еще и драйвово, для этого – Луцик и Саморядов.
Как вы выбирали актеров? Первоначально же на главную роль планировался Иван Янковский?
Да, у меня был большой кастинг. Многие люди пробовались, и Иван Янковский, и Саша Паль. Они сделали прекрасные пробы. Когда группа смотрела пробу Ткачука, она рыдала. Но все просто. Всем же очень нравится визуальная часть фильма? А это результат тщательного поиска мест для съемок. Мы снимали в девяти регионах. Некоторые объекты были незаменимы, уникальны. Мы пытались их сгруппировать, но зачастую это было невозможно. Определенные сцены можно было снимать только здесь и нигде больше. Они так написаны в сценарии. Поэтому нам пришлось путешествовать по безлюдным местам – от Калмыкии до Кубани, Анапы, Таганрога, Веселовской косы. Так что актера я поменял по двум причинам. Первая – объективная. С началом СВО стало невозможным ездить туда-сюда. Стало понятно, что закрыты все аэропорты на юге России, и дорога артиста туда и обратно занимает пять дней. А Янковский, Филимонов, Михайлова – у них были другие проекты, другие фильмы. И мы решили, что возьмем более свободных актеров. Мы стали таких искать и нашли – очень талантливых и крутых. И тут я подумал: ведь мир Луцика и Саморядова такой особенный, такой другой. И если я туда возьму Безрукова, то как я потом буду объяснять, что это не Есенин или не Саша Белый? Вот я и нашел двух очень знаковых артистов – Серафиму Гощанскую и Даниила Феофанова, которые до этого особо не снимались. И Серафима похожа на тот образ, который я себе придумал очень давно – как я сказал моим кастинг-директорам, либо это должна быть молодая Терехова, либо Марина Влади из фильма КОЛДУНЬЯ. Серафима похожа и на ту, и на другую. Что касается Дани, то я понял, что мне нужен артист, более похожий психофизически на моего персонажа. А Даня – он пловец, плаванием занимался. У него такие движения – он медленно мощный, что хорошо для этой роли.
Как вы сами жанрово определяете ВЕТЕР?
Я долго рассматривал эту картину как сказку, и мы даже думали рассказывать ее как сказку о спящей царевне или спящей красавице. Но кто-то из моих близких убедил меня в том, что в современном российском понимании сказка – это совсем другое. Ты обманешь так зрителя. Сказка сегодня – это уже закрепившееся понятие фантазийной истории. Это большой бюджет. А у меня не сказка, у меня другое кино. В фильме несколько пластов, которые существуют параллельно. Это, с одной стороны, роуд-муви – история, происходящая в дороге. Она продолжается как экшн и плавно переходит в мистическую фантасмагорию. Даже криминальному сюжету нашлось место, если смотреть через реалистическую оптику. Но в первую очередь это все-таки драма – для кого-то о любви, для кого-то о смирении и покаянии. Зависит, повторюсь, от того, кто смотрит.
Как вам кажется, ВЕТЕР будет интересен иностранному зрителю?
Видите ли, еще одна история, от которой я очень страдаю – это отмена русской культуры на Западе. Я участвовал так или иначе во всех крупных фестивалях мира. И мне казалось, что эта картина, как и все фильмы Луцика и Саморядова, которые были в Берлине, Каннах, Венеции, достойна внимания какого-то крупного фестиваля. И когда я по старой памяти показывал фильм отборщикам, программным директорам, то получал очень позитивный отклик. Но вместе с позитивным откликом я получал «нет» по политическим причинам. И эти политические причины оказалось невозможно преодолеть даже в ситуации, когда мой фильм на рынке в Каннах увидел Дэниел Лупи, крупнейший американский продюсер, который работал с Полом Томасом Андерсеном, Скорсезе, Спилбергом, с Джерри Брукхаймером над F1. И который, посмотрев фильм, сказал, что он ничего подобного в России не ожидал увидеть. Он посчитал, что это фильм мирового уровня, и решил выпустить его в североамериканский прокат, пускай и ограниченный. Я подумал: вот бывает же – счастье на голову падает. И мы даже начали работу. Но оказалось, что ни один сейлз-агент и ни один адвокат в США не хочет работать с русским фильмом и русским режиссером.
Еще одна причина, почему я решил снять ВЕТЕР – все мои фильмы про меня, и этот сценарий тоже про меня. Он ставит вопрос, связанный с гордыней. Мы все впадаем время от времени в грех гордыни, когда начинаем думать и ассоциировать себя с Богом, с демиургом. Знаете, мы считаем, будто то, что у нас получилось, это сделали мы. Это и есть гордыня. И я получил по башке очень сильно за все это в жизни. Когда мы сняли БУМЕРА 2, это было наказание. Понимаете, нашими руками движет провидение. Не мы делаем то, что делаем. Если получилось, это вот оттуда, сверху. А как только Бог отвернется и то, что из твоих рук выходит, теряет вот это обожествление, осмысление, ты становишься пустым, никчемным, никому не нужным. Это и есть наказание. И мой герой в этом фильме, Иван, – безбожник. Он этим не гордится, он ни с кем не борется. Он просто безбожник, даже не язычник. Он уверен в том, будто все, что происходит с ним в жизни, это его рук дело. За все, что он делает, он готов отвечать. И когда вдруг выясняется, что есть провидение, он не может с этим смириться и оказывается на грани сумасшествия.
Это меня с моим героем как-то связывает. И ни один мой продюсерский фильм не существует без меня лично. Например, фильм ЖИВОЙ я делал, потому что у меня был некий комплекс вины, что я откосил от Афганистана. Откосил через спорт, через поступление в институт, лишь бы не идти в армию на войну. Потому что мой год призыва был первым призывом в Афган, и друзья с моего двора там все погибли. Поэтому я решил, что фильм ЖИВОЙ – это то, что я должен сделать. Так же и БУМЕР, он тоже про многих близких мне людей. Да абсолютно все мои картины включают какую-то часть моей жизни. Иначе я делать фильм просто не могу. Так что в сценарии Луцика и Саморядова я тоже есть.
Добавляли ли вы что-либо в сценарий ВЕТРА?
Конечно. Но добавлял так, как работает театральный режиссер с пьесой. Она же незыблема, ты же не будешь Чехова дописывать. И я посчитал для себя, что этот текст канонический и что я имею право на все, кроме добавления слов. Я работал с музыкой, со сценами, с молчаливыми кусками. Я даже финал поменял, потому что в авторском варианте финала героиня приходила в себя на том свете на коленях у мужа. Но я посчитал, что этот вариант устаревший, несовременный. И взял тот вариант, который мы с Петей обсуждали, сидя на подоконнике в Доме кино. То есть да, я менял что-то, но мое отношение к тексту было очень уважительным.
В случае с ВЕТРОМ как-то не хочется использовать слово «референсы». К каким образам вы сами обращались, о чем думали, когда конструировали этот мир?
Я отвечу прямо: я референсами не пользуюсь никогда. Визуальными – могу как бывший архитектор. Но мне для фильма и для общения с художниками и операторами очень помог Эндрю Уайет. Я собрал, сколько смог, всяких альбомов, и мы сидели с операторами, я им показывал: надо вот так выхолощенно, но содержательно и композиционно, как у него. Можно, конечно, переводить его в кинематографические примеры. Но зачем? Смотрите, есть такое понятие, как музыкальный сэмпл. И кинематографисты в погоне друг за другом чрезвычайно сэмплировали изображение. Например, уже просто в печенках сидят кадры, когда персонаж открывает холодильник, а потом нам его показывают изнутри холодильника. Ну сколько можно так снимать и зачем? Вопрос поиска ракурсов, кадров, композиций – это вопрос индивидуальный. И чем больше ты вносишь в свою работу референсов, тем сильнее ты ее уплощаешь и лишаешь уникальности.
На мой непросвещенный взгляд, любое, даже самое что ни на есть кассовое кино является авторским. Давайте перестанем оскорблять авторское кино. Очень кассовый фильм Бондарчука 9 РОТА – он авторский. Очень кассовый фильм Тимура Бекмамбетова и Константина Эрнста НОЧНОЙ ДОЗОР – абсолютно авторский. И БУМЕР – абсолютно авторский фильм. И все зарубежное кино.
Где Голливуд ищет режиссеров для новых проектов? В Роттердаме и на «Сандэнсе», в Локарно. Находят там Иньярриту и далее тащат его на большие фильмы. А у нас почему-то молодые режиссеры мечтают о фестивальной резервации и о медальке оттуда, а не о прокате. Поэтому я предлагаю отмыть авторское кино от ярлыка, что оно не денежное. Оно может быть абсолютно денежным – как ЖИВОЙ, как ОСТРОВ.
Процесс разделения, который произошел в музыке на стадионную и камерную, на рок и поп, произойдет в кино естественным путем. Кинематография должна пройти этот путь, разделиться во всех смыслах. Во-первых, по принципу и по месту использования. В Европе есть кинотеатры для содержательных фильмов и кинотеатры для контента. Во-вторых, должно разделиться сообщество. Тот, кто снимает контент, не должен пересекаться с тем, кто снимает содержательное кино.
А здесь нет противоречия? Вы же вот сами сейчас говорили про фестивальный загончик для авторского короткого метра.
Нет. Секрет лежит в целеполагании. Когда я начинаю делать фильм, моей задачей является художественное высказывание. Человеческое, морально-нравственное, этическое, эстетическое высказывание. И совсем другое дело, когда люди собираются, чтобы просто получить со зрителей денег.
А проверять вы как это будете?
Не буду никак. Оно само органично разделится. Вот чего надо от кино добиться, понимаете? А у нас пока что первое пересечение возникает на уровне, к сожалению, актеров. Вслед за актерами – режиссеры: сейчас я делаю фильм для души, а потом – для денег. Но мы же понимаем с вами, что режиссер, если он честный человек, так делать не может, потому что он всю свою жизнь снимает один фильм.
Еще нам нужно, чтобы в стране было пятьдесят кинотеатров для содержательного кино, пятьдесят «Художественных». А в Москве их должно быть пять-семь. И сегодня не существует достоверного средства информирования аудитории о содержательном качестве кино как продукта. Люди дезориентированы рекламными посланиями. Таргетологи, маркетологи, тарологи сидят, колдуют. А я говорил всегда, что нельзя обманывать аудиторию. Нужно делать ролики в жанре фильма. Информацию нужно отдавать по-честному. «Советский экран» в свое время был подцензурным изданием, но они не врали в своей сути. Они действительно умудрялись выделить лучшие картины, лучшие новинки, сформировать спрос. И только иногда, когда что-то выходило к какому-то съезду партии, от них, конечно, требовали обложку. Но в целом им можно было доверять. Вот такого средства массовой информации сегодня не существует.
В Советском Союзе было четыре категории, которые присваивались фильмам. Они соответствовали количеству копий, от высшей до третьей. Постановщики получали дополнительное денежное вознаграждение в зависимости от категории. Фильмов высшей категории было мало, единицы. Они получали всесоюзный прокат. Фильмы первой категории тоже приличные деньги приносили, но количество копий было уже просто большим. Фильмы третьей категории шли спорадически, случайно. Туда часто попадали хорошие ленты, и это был механизм советской цензуры. Однако сам принцип интересный. А сегодня процесс борьбы за экраны стал болезненным. Мы любыми путями натягиваем количество экранов, особенно в мультиплексах и сетях, для того, чтобы закрыть своим фильмом максимум. Мы знаем, что большое количество решений аудитория принимает прямо в кинотеатре. И получается, что от росписи зависит ваш успех, но это изначально подмена понятий.
Хотелось бы еще аудиторию обсудить. Кто зритель ВЕТРА?
Я думаю, это все те, кто разочаровался в современном российском кино. Устал от фильмов одного формата, сделанных под копирку. И хочет настоящее, живое кино с душой. В историях Луцика и Саморядова настоящие живые люди со своей непростой судьбой. Кино и мужское, потому что оно в каком-то смысле про то, что мужики пошли на рыбалку и вот что приключилось... Но и женское. Ведь история – про то, на что способен мужчина ради женщины из-за любви. Именно главная героиня Катя задает основной вопрос фильма: как жить дальше будем? Как сказал кто-то из критиков, это точно кино не для слабонервных. И не для морализаторов. Еще, конечно, для людей творческих профессий, студентов актерских, режиссерских и прочих творческих вузов – и вообще студенчества. И – самое интересное – для тех, кто ходит в театр. А ведь их семь миллионов человек! И последняя аудитория неожиданная, мы ее вычислили случайно – 16-17-летние подростки. Они смотрят на мой фильм, как на диковинное чудовище: «Ой! Так бывает? У нас что, такое кино снимают?» Ведь фокус в том, что картина эта благодаря Луцику и Саморядову с точки зрения маркетинга очень хорошо отстроена. Так больше не пишут. Она другая. В этом ее уникальное маркетинговое качество, и это хорошо для аудитории. «Вы видели ВЕТЕР?» – «А что это?» – «Ой, это ВЕТЕР, это... как бы тебе объяснить...»
Как сказал один мой друг, если ты сумеешь картину показать широко, то ее будут обсуждать, как фильм Тенгиза Абуладзе ПОКАЯНИЕ, лет пятнадцать. Ее актуальность в том, что она ставит вопрос «кто мы такие?». Видите ли, я же с любовью к героям обращаюсь. Там же нет, как мне кажется, никакого моего снобизма, никакого с моей стороны отрицания этих людей. Они же все мне симпатичны, по-моему, это видно.
Да, безусловно, но вы же в конечном итоге с главным героем очень сурово поступаете. Он все-таки у вас Орфей?
Дело ведь в том, что это жизнь начинается рождением и кончается смертью. А фильм кончается финалом, и за ним что-то будет. Я своего героя не похоронил. И я ему не судья.
Фото: Юлия Зернова, Данила Горюнков